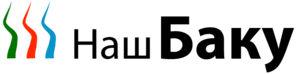Вейншал Яков Владимирович - врач
Вейншал Яков Владимирович - врач[править]
1892 - 1981
О ЯКОВЕ ВЕЙНШАЛЕ.
Яков Владимирович Вейншал, был личностью яркой и колоритной. Характеристика эта, несмотря на смущающий трюизм, в высшей степени соответствует как его внешнему, так и внутреннему облику.
Яков Вейншал родился в Тифлисе в семье врача Владимира (Зеэва Бен-Циона) Вейншала, который вместе с женой Каролиной Львовной (Арьевной) Ландау переехал из Петербурга на Кавказ, поскольку, с молодых лет страдая чахоткой, надеялся вылечить свои больные легкие под жарким кавказским солнцем, что на самом деле и случилось. С датой рождения Я. Вейншала произошла какая-то путаница, и в разных документах – не исключено, что по его собственной воле и по причинам, мне неведомым, – указаны то 1 октября 1891 г. (например, в его палестинском паспорте), то 1 октября 1892 г. (в удостоверении об окончании гимназии), то 10 ноября 1892 г. (в свидетельстве о зачислении в Женевский университет); в «Воспоминаниях» он пишет, что на год был старше своего брата Авраама, а это свидетельствует в пользу 1892 года, поскольку Авраам родился в 1893 году; см. также прим.
В 1910 г., окончив восьмилетнюю 1-ю Бакинскую Императора Александра III мужскую классическую гимназию, Я. Вейншал отправился в Германию.
Сначала он поступил на естественный факультет Мюнхенского университета, где изучал химию, затем перевелся в этом же университете на медицинское отделение, а диссертацию на звание доктора медицины защитил впоследствии в университете Базеля.
Годы, проведенные за границей, были наполнены не только университетскими занятиями, но и активной сионистской деятельностью: он был активным членом мюнхенской студенческой корпорации «Маккабея» и являлся одним из основателей сионистской студенческой организации «А-хавер» и членом ее Центрального Комитета.
Из-за разразившейся первой мировой войны ему как российскому подданному пришлось покинуть Германию и перебраться в нейтральную Швейцарию, где он был принят на медицинский факультет Женевского университета и вместе с братом Авраамом издавал журнал «Для самообразования сионистского студенчества».
Вернувшись в Россию, он в качестве военврача попал на Персидский фронт. После Февральской революции был отозван в Петроград для участия в еврейском отряде, которому надлежало пробиться через Кавказ в Палестину для борьбы с турками. Руководил отрядом Иосиф Трумпельдор. Осуществлению этого плана, одобренного Временным правительством во главе с А.Ф.Керенским, помешал большевистский переворот.
В конце 1917 г. Вейншал оказался в родном Баку. В 1920 году Яков в Тифлисе сочетался браком с Эстер Бински (умерла в Тель-Авиве 7 февр. 1928г.) Повторно женился в 1936г. на уроженке Лодзи Эмилии Окунь. От первого брака у Якова сын Ари 1921г. рождения.
С 1920 по 1922 служил в пропедевтической клинике Бакинского университета, сперва в качестве ординатора, впоследствии – ассистента. Там же опубликовал свои первые научные работы по медицине. В 1921 году опубликовал совместно с проф.Финкельштейном учебное пособие (книгу) под названием "Общая хирургия".
С 1922 г. – с приездом в Палестину – начинается новый этап в его жизни. Это была не первая встреча Вейншала с Землей Израиля. Еще в 1909 г., живя в Баку, он с отцом и двумя братьями приезжал сюда, движимый не «голодом по пряностям», как выразился бы в данном случае поэт М. Волошин, а сионистской идеей, овладевшей со временем всем его существом.
В Эрец-Исраэль он работал сначала врачом в округе Зихрон-Яакова, Киркура и Бейт-Шеана, затем в больнице Ротшильда в Иерусалиме. Принимал активное участие в создании больничной кассы "Купат холим ле-овдим леумиим" и сам в ней работал.
Был членом Национального совета (Ваад Леуми), членом городского совета Тель-Авива и представлял интересы ревизионистского движения в Гистадруте. В 20-е годы являлся палестинским корреспондентом парижского русско-еврейского еженедельника «Рассвет», главным редактором которого был Владимир Жаботинский.
В рубрике «Палестинские письма» появились десятки очерков и репортажей Вейншала, в которых выпукло, многообразно и максимально объективно представала жизнь еврейской Палестины. Он в единственном числе представлял палестинскую группу на Первой конференции сионистов-ревизионистов, проходившую с 26 по 30 апреля 1925 г. в Париже. В 1925–1928гг. возглавлял ЦК сионистов-ревизионистов в Палестине.
Не новичок в литературе, связанный и в прошлом с журналистикой, редакторским и издательским делом, Я. Вейншал с середины 30-х гг., когда в свет вышел его первый роман «Суд начнется завтра» – об убийстве одного из лидеров сионистского рабочего движения в Палестине Хаима Арлозорова, – становится, не оставляя кормящую его медицинскую деятельность, профессиональным ивритским писателем.
Здесь следует обязательно сказать о том, что Вейншал овладел ивритом отнюдь не в нежном возрасте, как большинство ивритских писателей. Больше того, отношения с ивритом у прилично владевшего несколькими европейскими языками Якова долгое время складывались весьма непросто. По крайней мере, в пору его приезда в Палестину, как выразились бы сегодня, «на постоянное жительство» (а было ему тогда как-никак 30 лет), иврита он, по собственному признанию, не знал. И то, что случилось через десять с небольшим лет, иначе как чудом не назовешь: родился писатель, пусть и не вошедший в плеяду крупных звезд ивритской литературы, однако же, занимающий в ней, по общему признанию критики и читательской аудитории, вполне достойное место.
Начиная с середины 30-х Я. Вейншал опубликовал в ивритской периодической печати бесчисленное множество рассказов, очерков (причем «бесчисленное множество» здесь не обиходно-гиперболическая фигура речи, сроднившаяся с жанром биографической справки, но абсолютно точная констатация «физического» факта: я потратил в Гнозим (архиве Союза писателей Израиля) полный световой день только на то, чтобы переписать в свой блокнот перечень разнообразных вейншаловских текстов, собранных в отдельную картотеку, – да и то, полагаю, в ней отражено далеко не все).
Поражает, прежде всего, ненасытная авторская тематическая всеядность: человек удивительно трезвомыслящий, обладавший прекрасной памятью, свежим и оригинальным взглядом на вещи, блистательно эрудированный и неизменно иронически настроенный, скептик и умница, Вейншал касался самых разнообразных предметов и материй. Если попытаться все это как-то объединить и классифицировать, станет очевидным, что предпочтение отдавалось – наряду с разумеющейся политикой (кем же надо было быть, живя в то время в Палестине и в Израиле, да и в наше время, пожалуй, тоже, чтобы не писать о текущей политике, – разве что великим писателем?) – истории и географии Эрец-Исраэль, причем в очень конкретном и вещественном смысле – ее археологии, архитектуре, ландшафту, битвам и героям, давним и недавним.
Генотип еврейского духа, его исторические корни и эволюция, составлявшие литературный «конек» Вейншала, его магистральную творческую тему, получили воплощение также и в романном жанре (им написано около двадцати романов): «Ганс Герцль» (1945) – о сыне основателя сионизма Т.Герцля; «Марку Барух» (1949) – о яркой и трагической судьбе известного сиониста XIX века Иосифа Марку Баруха, покончившего с собой в 1899 г. в возрасте 27 лет; «Жабо» (1950) – о В. Жаботинском; «А-дам ашер ба-соф» (1956) – о жизни, борьбе и смерти создателя и первого руководителя организации ЛЕХИ (Лохамей херут Исраэль – Борцы за свободу Израиля) Авраама (Яира) Штерна; « Хордус ахи» (1959) – о царе Ироде; «Irma» (1968) – о руководителе палестинского Бейтара Ирмиягу Гальперне, «А-ришон бе-ковшей а-гар» (1969) и др. За свои литературные достижения удостоен в 1969 году премии им.В.Жаботинского. Сотрудничал Я. Вейншал и с русскоязычными израильскими газетами и журналами, в первую очередь как исторический очеркист. По-русски написаны и настоящие воспоминания.
В 1950 г., будучи во Франции, намеревался познакомиться с И.Буниным, но, видимо, не застал его в Париже; см. в письме Д. Кнута Буниным из Израиля от 8 мая 1950 г.: «На днях к вам попросится в визитеры один мой приятель, тутошний врач и литератор, превосходно изъясняющийся по-русски: он вам расскажет об Израильском государстве и о прочем таком. Зовут этого израильского писателя – Яков Вейншал».
Вейншал был дружен с некоторыми русскими писателями-эмигрантами, посещавшими Палестину, например, с Ант. П. Ладинским.
Умер Яков Вейншал в 1981 году.
Источник:
В. Хазан. О Якове Вейншале
Яков Вейншал. ВОСПОМИНАНИЯ[править]
[Отец]..всю жизнь страшно кашлял. Впоследствии он стал железнодорожным врачом и жил на одной из узловых станций линии Баку – Тифлис[1]. Тут родился мой второй брат Абрам[2].
Потом военное ведомство передало его гражданскому - и он был назначен сельским врачом в Маштаги, богатую татарскую деревню, нечто вроде оазиса в песчаной пустыне[3]. И это благодаря тому, что о нем как о враче был хорошего мнения губернатор, которого он лечил. После Бога, по степени влияния на судьбы людей, шел губернатор, от которого зависела судьба миллионов - всей Бакинской губернии.
Мать моя девушкой была красавица, потом <стала> красивой женщиной. Несмотря на это, она охотно удалилась вместе с отцом в этот медвежий угол на много лет. Ей импонировала кипучая энергия моего отца. Он работал не покладая рук. В совершенстве изучил татарский язык. Сам принимал роды - в том числе и своих собственных детей. Шил разбойникам в их берлогах распоротые кинжалами животы. Часто выезжал к больным на много десятков верст верхом на лошади. Он не знал, что такое отдых и что такое страх. Скоро он стал самым популярным врачом всего Апшеронского полуострова. Татары его не звали иначе - как «наш доктор с красной бородой». Даже впоследствии, когда мы жили уже в Баку, то извозчику вместо адреса достаточно было сказать: «К красному доктору», - и он доставлял на место, - и это в городе, где жило около полумиллиона жителей.
Тогда, в Маштагах, я как-то слышал от него, что деревня эта не обижена историей и что Маштаги - это не лингвистическая передержка, - некогда она была столицей аланов, и именно мосторчетских аланов.
Мы, однако, не были единственными европейцами в этих Маштагах. В том же громадном доме помещалась квартира пристава и мельница, при которой жил мельник со своей женой. На десять тысяч татар это было немного. Но как раз мельничихе суждено было сыграть в моей жизни фатальную роль.
Мне было тогда не больше шести лет. Нашей главной детской забавой были разбойничьи нападения на татарских мальчиков. Несмотря на то, что они были старше по возрасту, мы брали в плен и вытаскивали у них из карманов бараньи косточки-альчики - кубики для особой игры, которая занимала нас больше всех игр на свете. В итоге у нас дома, как у настоящих пиратов, хранился ящик с сокровищами: альчики простые и окрашенные в красный и синий цвет, альчики наточенные, альчики с влитым в них свинцом, которые почти никогда не ложились, к ужасу игрока, набок. Нам часто попадало от наших жертв, которые вызывали на помощь себе товарищей. Мы дрались, как львы. Отступали к заранее заготовленным кучам камней и отстреливались. Крытые колодцы на площади служили прикрытием и засадой. Битвы были жестокие. Один раз отцу пришлось зашивать глубокую рану на голове одному из раненных нами, притом вся деревня ходила вверх дном.
Много лет спустя, уже как молодой врач заменяя отца, я посетил эту деревню Маштаги. Было опасно, и меня сопровождали татары моего возраста с винтовками. Зашел разговор о детских годах. Они не забыли этой нашей артиллерийской стрельбы у колодцев, эту войну хитрого Запада с наивным Востоком.
В нашем легионе четырех был сын мельничихи, нашего же возраста. Один из камней вражеского войска ушиб и его. По этому поводу мельничиха, простая баба, разразилась по нашему адресу проклятием: «Жиды, убили Христа!» Фраза прозвучала в моих ушах несколько таинственно. Я попросил у матери объяснения. Она мне объяснила, что жид - это ругательное слово для еврея, и русские считают нас виновниками в убийстве их Бога.
Из слов матери я понял, что это злостный поклеп, но для него имеются и кое-какие основания. Это открытие показалось мне чем-то фатальным из всего, что мне пришлось слышать до сих пор и предстояло слышать в будущем. Я понял, что принадлежу к какой-то особой породе людей, заклейменной каким-то никогда не совершенным страшным убийством. Это была моя первая психическая буря. Весь мир нас обвиняет в богоубийстве, и нет возможности это опровергнуть, так же, как и нет таких судей, которые бы взяли на себя нашу защиту.
Мать мне сказала: «Перестаньте играть с сыном мельника...»
Но для меня в этот момент весь мир был не больше, чем большая мельница, в которой вместо муки мелят ядовитую ложь. И в эту минуту я решил, что я, зачумленный, принимаю бой, каким бы он ни был неравным. Мать мне сказала, что они считают своим Богом одного убитого еврея. Я решил, что, если это даже так, то совершенно неважно, кто его убил, важно только заткнуть всем глотку, чтобы они не вмешивались не в свои дела. Если им нужен Бог, то пусть ищут себе в другом месте, а не среди нас. Не они, а мы сами вправе распоряжаться собой как нам угодно.
Это было жестокое переживание, и я не сомневаюсь в том, что эта обида глупой мельничихи стала исходной точкой всего моего развития. Мое самолюбие было уязвлено.
Как-то раз отец мне рассказал, что какой-то доктор из Вены предлагает, чтобы все евреи поехали в Палестину. Эта идея на меня произвела впечатление и с чисто технической стороны. Я себе тотчас представил, что все сядут на поезд, у которого будет бесчисленное количество вагонов, и поедут в Палестину. А после лошади моего отца, на которой я часто мчался по дорогам, самым большим моим кумиром была именно железная дорога. Особенно паровоз! Все стулья в доме всегда стаскивались нами в нашу детскую - они служили вагонами. Поэтому идея Герцля мне страшно понравилась, как если бы мы сели управлять паровозом.
Сильное впечатление произвел на меня приезд в наш дом губернатора. Особенно то обстоятельство, что по этому поводу была вытащена из буфета часть пасхального сервиза из красного хрусталя, и в одну вазу была втиснута запрещенная, как говорила бабушка, икра. И это совсем даже не было в Пасху.
Но эта неувязка скоро перестала меня занимать. В деревне были вещи гораздо более занимательные, чем приезд губернатора. Мусульманский праздник Шахсей-Вахсей[4], когда деревня неделями обходила процессиями - с диковинными зелеными знаменами с зеркальцами и дикими воплями - все улицы. Через несколько дней возбуждение достигло своего апогея. «Избранные» начинали бить себя железными цепями и в последний день наносить себе большими кинжалами порезы головы, обливая кровью свои белые передники. Потом мистерия с рыцарями на лошадях в древних кольчугах. Они убивают пророка. Толпа в несколько тысяч заливается слезами и вопит. Сжигание лагеря пророка Али, его отрубленная <голова> шея, сочащаяся кровью, - таков финал мистерии. Наша семья занимала почетное место у входа в мечеть, вместе с кади[5], и отсюда все можно было хорошо видеть.
И потом татарские свадьбы на площади в огромных шатрах из сотен ковров, в которых выступали девушки с распущенными волосами и артисты-юноши с выпяченным задом, восточная зурна и обязательные состязания в борьбе на площади. Пара за парой, по восходящей по силе борца степени, - и триумф чемпиона «Джауда». Здесь, среди этих отдаленных потомков каспиев, аланов, моголов, турок, вдруг как правомерный потомственный гражданин этот чудо-силач «Джауд», еврейской крови, который сам не знает ничего о своем происхождении, - он гордость Апшерона.
И потом помню, как отец занимался фотографией. У него был диковинный деревянный аппарат. И самое любимое наше, детей, занятие было сидеть с ним в темной комнате и из-за его спины, при свете красной лампы, наблюдать, как выступают контур за контуром знакомые лица: проявление негатива. Как часто я потом думал, что здесь, в этой темной комнате, я постиг весь процесс жизненного пути, в том числе и своего. Мы не больше, чем белая пластинка, которая, погруженная в кислоты и щелочи жизни, проявляет одну черту за другой, вырисовывая лишь предначертанное.
Эта по-детски глубокая философия не мешала мне сажать кошку на куриные яйца и, всему исцарапанному ею, приходить жаловаться матери на то, что она отказывается нести бремя курино-материнских обязанностей. Мы уходили за много верст от дома, чтобы самостоятельно убедиться в правоте глобуса, и наши родители, к своему ужасу, находили нас спящими от изнурения и голода у края открытого колодца. Мы хорошо говорили по-татарски, и особенно красочно ругались; чем восточнее язык, тем более непостижим в своем богатстве его словарь проклятий. Любовались лиловыми садами расцветающего шафрана, собирали слезшие со змей шкурки и, главным образом, прокрадывались в кладовку, где можно было жевать сырыми развешанные там грибы.
Шафран и грибы - два полюса. Мой дедушка посылал в свой Могилев несколько фунтов маштагинского шафрана и получал взамен несколько фунтов хороших сушеных грибов. Посылал их Берка, таинственный Берка, сирота, усыновленный дедушкой, - страж покинутого дома. Эти грибы приходили в больших холщовых пакетах, с указанием самого невероятного адреса. В нем все было перепутано: имя отца, название губернии, вместо Маштагов была написана какая-то Мостоцкая волость. Как они доходили - это уже само по себе было чудо.
Через тридцать лет в Тель-Авиве я встретил автора этих фантастических адресов на пакетах с грибами. Им оказался сын Берки, ставший адвокатом. Он пригласил меня к себе. Мы пили вино. Я узнал бокал: красный хрусталь с золотым ободком. Он был из того же пасхального сервиза моей бабушки. Ее уже не было в живых - иначе она была бы очень огорчена: как это такой бокал мог остаться без ее ведома у Эммы или Берки. Я смотрел на этот бокал в Тель-Авиве как на семейную реликвию. Он снова перенес меня в Маштаги, где приехавшая из Петербурга тетя <Б>етя приняла нашу восточную питу за диковинную по вкусу рыбу.
Где тетя Надя, сестра моего отца, была в отчаянии от моего отвращения ко всякого рода наукам, и особенно к чистописанию. Куда часто являлся дядя Давид, отец моей матери[6], всегда смеющийся и нагруженный игрушками. Где бабушка мне показывала фотографию моей двоюродной сестры Дуси, дочери дяди Яши из Риги, торжественно меня заверяя, что она самая красивая девочка на свете, и что я женюсь только на ней.
С учением, действительно, подвигалось туго. Мой бедный отец, он, должно, был от меня в отчаянии. Но он был врожденный педагог. Недаром и его отец[7], прежде чем стать секретарем «Восхода», был преподавателем русского языка в еврейской школе в Минске. От этого «русского» преподавания все его дети носили чисто русские имена: моего отца звали Владимир, его сестрами были Мария, Анюта и Надежда.
Каким-то чудом в его <отца мемуариста> паспорте было, однако, проставлено еще два имени: Бен-Цион и Зеев. Сам он дал нам, всем трем, библейские имена: Яков, Авраам, Элиазар, без всяких побочных имен. Мою сестру он назвал по имени своей матери, которая в молодости погибла от туберкулеза - болезни, которая так угрожала и ему самому.
Так от дедушки к нему перешла эта педагогическая жилка. Я не ошибусь, если скажу, что он три раза сдавал экзамены на аттестат зрелости. Один раз за себя самого, второй раз вместе со мной и третий раз вместе с моим сыном. Три раза пройти курс геометрии, алгебры и тригонометрии - это совсем не так просто.
Когда наступило время поступления в гимназию, меня отправили вначале на нефтяные промыслы, к дяде Давиду, потом в Баку, к тете Наде. Семи с половиной лет я покинул дом и больше всего тосковал по матери. У нее был такой ровный, уравновешенный характер. Если бы я увидел ее когда-либо плачущей, мне показалось бы, что наступило светопреставление. Она нас никогда не воспитывала - она делала больше: сама была примером. Это, должно быть, самая лучшая форма воспитания; не все матери об этом, к сожалению, знают.
Она не должна была говорить - ее глаза выражали все ее желания, опасения, надежды и гордость своей семьей. Она умела смотреть на все как бы со стороны и уже в детстве считала нас взрослыми и каждого ответственным за самого себя. И это действовало. В ее присутствии мы чувствовали себя взрослыми. Мне даже кажется теперь, что я всегда был взрослым, потому что она никогда не делала из нас только детей.
Если для психоаналитиков это может представлять какой-либо интерес, то уже с детства меня мучила и преследовала одна странная идея. Сущность ее сводится к следующему: почему «я» это «я». Кто распорядился так, что моя душа, мое сознание, мой пролет через жизненный путь оказался неразрывно связан именно с моим, а не с другим телом из всех этих миллионов людей. Почему я должен нести ответственность именно за этот, а не за какой-либо иной лотерейный билет на право участия в жизни.
Возможно, что многих преследует та же мысль, хотя они об этом не говорят. Когда я их спрашиваю об этом, они начинают коситься на меня, подозревая во мне раздвоение личности и человека, который ищет способа освободить себя от того долга, который на него возложило метрическое свидетельство.
Не мне решать этот вопрос, но он уже там, в Маштагах, меня постоянно занимал, даже когда я собирал цветные ракушки, сушил цветы, коллекционировал бабочек и, конечно, собирал цветные бумажки от конфет, сортируя их, как если бы это были деньги. Поэтому я думаю, что я всегда был взрослым, и мать моя была права, предоставив меня самому себе.
У дяди Давида все было иначе, чем у нас дома в Маштагах. Он жил[8] в самом центре нефтяных промыслов среди леса черных нефтяных вышек и топких болот с нефтью - месте, обкрученном, как паутиной, нефтяными трубами на много километров по окружности, с адским шумом от паровых молотов и черным от сажи небом. Здесь я увидел первое чудо техники - электрическое освещение, натертые лаком паркетные полы, масляную краску на стенах и квартиру в пятнадцать комнат, из которых десять были заперты на ключ.
Дядя Давид долго оставался холостяком, и, может, поэтому он всегда был в хорошем настроении и страшно любил детей. Живя у него и пробираясь в запертые комнаты, я перелистывал там разложенные иллюстрированные журналы. И, должно быть, надоедал ему вопросами о причинах европейско-китайской войны с ее зверствами, которая тогда занимала прессу.
Впрочем, <обычай> пробираться в запертые парадные залы и проводить часы, раскапывая всякие хранящиеся там чудеса, был у меня еще в Маштагах. Здесь я нашел миниатюрные альбомы в изящных переплетах из оливкового дерева с засушенными цветами из Палестины, рассылаемыми людьми халуки. Теми же людьми Хеврона и Цфата были посланы нам уродливые сухие луковицы с острыми шипами. Достаточно их было опустить в воду на несколько часов, как они чудесным образом распускались в прекрасную водяную лилию. Имя этому волшебному цветку было Иерихонская роза. Она на меня в детстве <произвела> неизгладимое впечатление.
Впоследствии, когда я стал старше, представление об этой розе слилось у меня с судьбой еврейского народа, высохшего, колючего, уродливого физически и морально, но все еще живого, которому достаточно получить живительные соки для того, чтобы снова воспрянуть к полноценной жизни. Я еще и теперь продолжаю верить в этот фетиш своих детских лет, и это несмотря на некоторые разочарования и существенные поправки в этой концепции.
Но тогда, в прекрасно обставленной квартире дяди Давида, меня больше интересовали войны. После китайской, конечно, англо-бурская. С мальчиками во дворе я играл в эту войну и, к моему несчастью, на меня выпадала всегда роль представлять «англичанина». Когда мне сильно доставалось от моих более сильных противников, то они автоматически ссылались на то, что так это должно быть потому, что настоящие буры порядком колотят настоящих англичан. Это было слабым, конечно, утешением. И, может быть, с тех пор я никогда уже больше не отождествлял себя так легкомысленно, как в возрасте восьми лет, с английской ориентацией.
Дядя Давид был во всех отношениях удивительный человек. У него было особое счастье попадать в когти к смерти и выскальзывать из нее невредимым. В детстве он тонул в Днепре. Однажды во время большого пожара на нефтяном заводе он оказался в его центре, окруженный со всех сторон горящим морем с километр в квадрате. Меня ночью укутали в одеяло и в числе прочих перенесли на пароход, и матросы стояли с топорами у чалок, ибо пожар зажег море, покрытое нефтью, и это на случай внезапного отплытия. Дядя Давид считался всеми погибшим, так как он находился всего в нескольких метрах от первого взрыва. Несмотря на это, он отделался только обмороком и отравлением газами.
Впоследствии его украли бандиты, угрожая его смертью, если не будет выслан большой денежный выкуп. Из своего пленения он просил внести выкуп, но упорно подписывал свои письма вместо «Давид» - «Диктант». Он вышел невредимым и из этого испытания, несмотря на то, что требование похитителей не было удовлетворено. Странно, что Сталин, тогда только партийный агитатор, которого считали инициатором этого похищения, не обратил внимания на эту маленькую разницу в правописании между словом «Давид» и словом «Диктант». Моя мать лучше разбирала почерк своего брата, чем будущий глава половины мира.
Но этим испытания дяди Давида не закончились. С приходом к власти большевиков он был арестован и ему угрожал расстрел, потому что, исполняя инструкции фирмы «Шелл» из Лондона, он пытался еще до прихода большевиков выслать за границу чашу из чистой платины весом в сорок кило. Его спасло то, что арестованный с ним вместе его помощник, такой же инженер, как и он сам, имел сестру большевичку, неофициальную жену самого Орджоникидзе.
Через два года он снова был арестован, потому что отказался перевести свое задержанное в Лондоне жалованье большевикам. Ему не было жалко этих денег, но он знал, что в тот момент, когда деньги будут у большевиков, его неминуемо расстреляют. Пока он хозяин этих денег, его жизнь обеспечена.
После томительных лет в тюрьме с постоянной угрозой расстрела о нем вдруг вспомнили как об одном из лучших инженеров, специалистов по добыче нефти. Он был освобожден, переведен в Москву, и ему был вручен самый большой пост в управлении нефтью всей советской республики.
Его здоровый, холодный мозг настоящего Ландау, с большими математическими способностями, унаследовал впоследствии его сын, один из лучших специалистов в России по атомным бомбам. Из автобиографии Артура Кестлера я случайно узнал, что он столкнулся с этим моим кузеном в России. Я из этого сделал вывод, что бедного Артура наша семья преследует по обеим сторонам железной завесы.
Маленьким мальчиком я не мог предвидеть всего этого бурного будущего моего дяди, но в нем уже тогда поражало меня то, что я чувствовал у моей матери, - безграничный фатализм, вера в судьбу, полное самообладание, равнодушие ко всем испытаниям, почти презрение к жизни.
После смерти дедушки Арье[9] в нашем доме пасхальным сейдером стал руководить дядя Давид. И тут у нас с ним происходили самые забавные столкновения.
В то время как мой отец в свои студенческие годы дружил со студентами, из которых некоторые, в том числе Белькинд, пошли в «билуйцы», дядя Давид был неуклонным последователем Дубнова. Для него сионизм была пустая химера. Евреи должны оставаться там, куда их забросила судьба, оставаться евреями. Они могут время от времени помогать тем, кто едет в Палестину заниматься земледелием, - и это все. Вопрос «Ма ништана?» был объявлением войны дяде Давиду, войны рыцарей с рыцарем. Мы ловили его на противоречиях, и первое из них было: «В будущем году в Иерусалиме!» И разве голус <(галут)> - это не тот же новый Египет?! После афикомана дискуссия заканчивалась временным перемирием. Но из года в год дяде Давиду становилось все труднее и труднее от нас отбиваться, и ему мало помогали его хитрые силлогизмы.
Моя мать была на его стороне. Для нее наше увлечение сионизмом была простая забава. Так же она относилась и к сионизму отца, который, должно быть, в глубине души сожалел, что в свое время не присоединился к романтическому порыву билуйцев, к которым относился с большим уважением.
Мать, однако, считала, что из всех видов спорта сионистический азарт - самый невинный, и поэтому никогда не мешала ни отцу, ни нам в этой игре в «мыльные пузыри», и мы были для нее не больше, чем еврейские Дон Кихоты. Когда потом мы, детьми, вместе с отцом посетили Палестину, отец встретил своих «билуйцев» в Котре[10]. Одна из его подруг детства, уже обратившись в деревенскую бабу, презрительно ворчала на своего опростившегося мужа: «Идеалист. Встает в 4 часа утра доить корову!» Я посмотрел на отца. Его глаза улыбались. Его мысль, вероятно, была: «Ошибка, что я не пришел сюда с ними, не была, оказывается, так велика».
Потом я жил в Баку у тети Нади, которая была учительницей в русско-еврейской школе, и которую посещали беднейшие дети еврейской общины - обычно из круга горских и грузинских евреев. Их нужно было здесь не только обучать, но иногда кормить и мыть. Она была предана этому делу всей душой. Она была для них матерью. В социалистическом подполье она познакомилась со своим мужем, но он умер от воспаления легких через несколько месяцев после свадьбы. Сама судьба распорядилась, чтобы она навсегда осталась матерью чужих детей.
Мой отец помогал определять наиболее способных из ее учеников как стипендиатов в средне-учебные заведения. Это была его страсть. Он сам провел тяжелые ученические годы - он учился за свой счет, зарабатывая себе на жизнь уроками. Он не мог равнодушно поэтому относиться к юношам, перед которыми заперта карьера только из-за их бедности.
Это тесное сотрудничество не было секретом в городе. От тети Нади, которая была моя первая воспитательница, мы получили из России одно сообщение. Ее встретил на улице в Москве Андрей Вышинский, грозный прокурор Совнаркома, крепко пожал как старый бакинец ей руку и, узнав, что мой отец в Палестине, попросил передать ему в письме сердечный привет[11].
И потом еще один <случай>. Ко мне в Тель-Авиве постучался грузный американец, за счет которого в стране один из самых известных археологов производит свои раскопки и обследования Негева[12]. Он был такой же американец, как и все <американцы>: довольный собой, довольный нами. Я раскрыл рот, когда он мне сказал, что он был в свое время воспитанником моей тети Нади в ее школе для беспризорных детей из общины горских евреев. Его карьера была результатом ее энергии, которая докатилась до Негева и его набатейской культуры. Если бы она это знала, может быть, это было бы ей не менее приятно, чем рукопожатие Вышинского.
Кстати, насчет горских евреев. На Кавказе у меня был еще один дядя - чистокровный горский еврей. Он женился на сестре моего отца Марии и был инженером на нефтяных промыслах: единственный горский еврей своего времени с высшим образованием[13]. Как это ни печально, но в своей статье в Еврейско-Русской Энциклопедии о горских евреях он доказывал, что горские евреи, подобно караимам, хазарского происхождения и потому не должны быть подвергнуты ограничениям, распространяемым на евреев.
Об этом не стоило бы упоминать, если бы один раз я случайно не натолкнулся на сына его брата в Иерусалиме. Взяв в Иерусалиме такси, я вдруг обратил внимание на то, что мой шофер нервничает. Когда он меня доставил на место, он назвал меня по фамилии. Меня это удивило. Я его спросил, встречал ли он когда-нибудь меня раньше, знал ли он моего отца или был случайно в Тель-Авиве, месте моего постоянного жительства. На все вопросы он ответил отрицательно. Тель-Авива он не любит, отца не знал, меня видит в первый раз в жизни. Я его спросил, что навело его на мысль о моем имени. Он мне сказал: «Спросил на всякий случай. Нельзя спросить? Я племянник инженера Анисимова». Этот мой дальний кузен, старожил Иерусалима и шофер такси по профессии, должно быть, невнимательно читал статью своего дяди в энциклопедии о хазарском происхождении горских евреев.
Тут, живя у тети Нади, я узнал о смерти в Маштагах моей сестры Цицилии от туберкулезного воспаления мозга. Это был рок ее имени, так она была названа в честь матери моего отца, погибшей от той же болезни. Через два года моя мать родила вторую сестру, имя которой Рая. Смерть стала часто появляться на пороге нашего дома. Скоро умерли чуть ли не в один месяц оба дедушки, но это уже было тогда, когда отец и мать переселились в Баку и я вернулся в круг семьи.
Гимназия с ее величественным наименованием «Александра III» и с ее специфическим запахом, который был неразрывно связан с ее старым, грандиозным, выходящим на четыре улицы зданием, запахом, в котором все смешалось: запах мышей, лизоля из уборных, пирожков из буфета и разлагающегося дерева или кадила из русской церкви. Уже один этот запах наводил свою особую дисциплину на тех 1200 учеников, которые вливались каждое утро в ее двери, проходя мимо одетого в ливрею величественного сторожа.
Революция 1905 года подложила мину под ее железную дисциплину, под все - даже под кокарду с короной и крестом на синей военной шапке, такие же символы на медной бляхе лакированного пояса, серый суконный солдатский наряд и гладко подстриженные, конечно, без чуба волосы. Это было тогда, когда я был в четвертом классе. Забастовки учеников, которые длились неделями (какое удовольствие!), сходки с речами для любителей, все ученики при оружии. Мы стали лучше разбираться в маузерах и парабеллумах, чем в исторических датах древнего Египта или Рима. У меня самого был тайком похищенный у отца из старого ящика старый «бульдог» и новенький, такой занятный в своей конструкции, смит-вессон.
Гимназия была расположена в армянской части города, и потому состав класса был примерно таков: на 60 учеников - 30 армян, 10 татар, 5 русских, 5 евреев, потом единичные поляки, грузины. Все принадлежали к какой-либо партии: армяне - к революционному и вооруженному с головы до ног «Дашнакцутюну», все остальные, в зависимости от симпатий родителей, - к эсерам, социал-демократам, и почти все русские - к черносотенным антисемитским организациям. Но при таком составе класса они могли только сидеть тихо, опустив нос. Они компенсировали себя тем, что часть из них, как любимчики учителей, считались неизменными первыми учениками, а другие бравировали своим хулиганством, посещением публичных домов и даже венерическими болезнями.
Были и курьезы: один татарин настолько запоздал в своем образовании, оставаясь в каждом классе на два года, что в восьмом уже имел сына в младшем приготовительном.
Были и жертвы гомосексуализма, мальчики, вначале с неестественно красными лицами и неизвестного происхождения большими деньгами, разъезжавшие на фаэтонах. И потом вдруг они худели, бледнели и исчезали из гимназии навсегда, зараженные сифилисом.
В эту эпоху взаимоотношения с учителями с трудом поддаются описанию. Как пролог во время большой перемены двери класса плотно закрывались с помощью ножки опрокинутого стула, всунутого в ее ручки. Чернильницы летели и разбивались о стены. На черных от этого пятнах мелом выводили круги мишени для стрельбы. Парты служили окопами, и класс превращался в плацдарм для военной стрельбы в цель на призы. Когда, наконец, запоздавшему не по своей вине учителю удавалось проникнуть в класс, то он вежливо просил открыть окна, чтобы очистить комнату от порохового дыма.
Те же самые учителя, которые в первые годы нас тиранили своими придирками, сидели теперь молчаливо, когда под партами раздавалась дробь барабана от спускаемых вхолостую курков дюжины револьверов. Это как бы было предупреждением перейти к следующему уроку и не задерживаться на излишних вопросах об уже пройденном. Ученик, вызванный к доске, чтобы продемонстрировать испуганному учителю имеющийся у него кинжал, привязывал к своей ноге веревку и тут же на подиуме у классной доски совершал операцию, перерезая ее одним ударом кинжала.
В восьмом классе при выпускных экзаменах было трагичнее: были насмерть застрелены разочарованными в своей академической карьере учениками один преподаватель и один инспектор гимназии. Особенно тяжелое положение было у учительниц: одна из них была милейшая грузинская княгиня, ее уроки французского языка иллюстрировались учениками на классной доске и на стенах большими символическими рисунками сверхпорнографического содержания. И - чудо: несмотря на все эти мерзости, она, эта Нина Платоновна Микеладзе, своим тактом легко восстанавливала дисциплину. И удавалось ей это очень просто: каждый ученик был уверен, что она тайно влюблена именно в него, и он был ее единственный рыцарь.
О наших низких познаниях нечего было и говорить. Достаточно, если мы за год до окончания не имели представления, как, например, на немецком языке называют запятую. Половина класса писала немецкую диктовку, пользуясь русской кириллицей, как бы предвосхищая этим будущий захват Советами Берлина.
В наше оправдание можно привести то, что мы уже все с десятилетнего возраста были холодными зрителями массовых и зверских убийств на улицах города. Возвращаясь из гимназии, буквально шагали по лужам крови через трупы жертв армяно-татарских столкновений. Люди охотились на людей, как если бы это были дикие звери, - сжигались целые кварталы, со всеми там живущими семьями, на глазах у бездействующей власти.
Любопытно, что мы, будучи евреями и нейтральной стороной в этой кровавой распре, в которой армяне, сравнительно культурная нация и как меньшинство, являлись стороной слабейшей, питали к ним не естественную симпатию, а антипатию. Переживая впоследствии еврейско-арабские столкновения, организованные английской властью по тому же рецепту, по которому русская полиция организовывала армяно-татарские взаимные нападения, я понимал психологию англичан. В подобного рода национальных распрях, где слабейшая сторона претендует на полуцивилизацию, а другая, сильнейшая, не стыдится своей дикости и примитивности, симпатии зрителя со стороны именно на стороне «дикарей», а не тех, которые, напялив европейский наряд и усвоив дешевые левантийские манеры, кичатся своей добродетелью и благодушием. Как нелепа при этом апелляция к мировой справедливости, на которую мои сограждане в свое время возлагали столько надежд, <тщетно взывая> к «нейтральным» в Палестине христианам с английским паспортом.
Во всех других отношениях я рос и развивался как нормальный юноша моего социального положения. Конечно, коллекционировал почтовые марки, откуда до сих пор мои познания в прикладной географии и даже в некоторых исторических датах. Уже взрослым человеком, попав в полосу душевного кризиса, я вдруг снова начал собирать марки с тем же детским энтузиазмом. Это было бегство в детство, желание начать старт с начала, какой-то примитивный способ самолечения, в силу одного инстинкта, без всякого домашнего лечебного справочника. Кризис прошел, и старые марки мои были мне больше не нужны.
Увлекался, конечно, коллекционированием иллюстрированных открыток, особенно изучением эсперанто. Переписывался долго с какими-то лицами женского пола из Сиднея и Бильбао на этом языке Заменгофа и на основании его адресной книги. Должно быть, мои корреспондентки были в четыре, если не больше, раза старше меня, и мое счастье, что изобретение телевидения опоздало более чем на пятьдесят лет.
Изучал еврейский язык, по предложению деда Шауля, с гонораром копейка за букву. Но всего инкассировал 5 копеек, так как дальше «гея» учение почему-то не подвинулось. Рылся в библиотеке отца, открыл там книги Иосифа Флавия, которые на меня не произвели ровно никакого впечатления. Гораздо больше - библии на всех языках мира, даже на армянском и грузинском, по которым мой дед Шауль изучал все языки вплоть до португальского.
Логарифмические таблицы и другие книги по математике Каценеленбогена, отца моей бабушки Фани[14], которая претендовала на то, что она из царского рода Валя. Эта царская кровь время от времени волновала мое воображение, пока я не узнал правды: Валь был всего только один день королем Польши, и то благодаря слепому случаю.
Книги деда Арье, отца матери, - пять больших томов комментариев к комментариям Маймонида, написанные его прадедом[15], его гордость, - хранились отдельно, и я мог их видеть только тогда, когда дед отправлялся в синагогу читать из них отрывки своим преданным слушателям. Эти два деда, один грузный Шауль, казенный раввин Тифлиса и, несмотря на свое пристрастие к библиям на всех языках мира, вольнодумец, и сухой и молчаливый аскет дед Арье, который соблюдал все, были двумя магнитными полюсами той оси, вокруг которой вертелось мое религиозное сознание. Я чувствовал <себя> на экваторе, в равном расстоянии от них обоих, поэтому религиозное сознание меня уже с детства занимало мало. Его очень скоро заменило не менее страстное национальное сознание, которое по своей ревности ни в чем не уступало сознанию религиозному. Но когда мой отец поехал на сионистский конгресс в Гаагу и, взяв с собой мать, оставил нас, детей, в Берлине на несколько недель, то тогда ни для какого интереса к сионизму не было места.
В Берлине тогда мы, дети, ради спорта обошли решительно все музеи города и очень скоро стали большими специалистами по части тех лавок, которые занимались продажей старых почтовых марок, и, конечно, особым уважением в наших глазах пользовался именно Музей истории почты, так как там мы воочию убедились, что магия марок так же непостижима, как непостижимо количество звезд на небосклоне.
Кроме того, летние посещения Рижского взморья, в гостях у дяди Яши, и Урала, в гостях у дяди Леонида, с верховой ездой, кумысом, рыбной ловлей и охотой на диких уток на заре, с ночевкой у костра, в поле, в таборе деревенской молодежи - ничто не будило во мне еврея. Правда, я дрался, или, вернее, меня били в лесах Маойренгофа, у Риги, рослые дети немецких баронов, но они не могли знать ничего о моем происхождении. На Урале меня застал разгар русско-японской войны, и не было никакой другой темы, кроме нее.
Не лучше обстояло дело в Баку. Мои два револьвера часто бывали в теоретическом применении. Как-то раз, совершая невероятный акробатический прием на своем велосипеде, я сломал себе руку. Для лечения мне надо было посещать клинику, расположенную в мусульманской части города. По дороге меня ежедневно преследовал какой-то гомосексуалист и, показывая из-под пальто свой револьвер, требовал от меня, чтобы я следовал за ним. В ответ я, не меняя шага, показывал ему таким же образом свой револьвер, и эта сцена повторялась три недели подряд. Рассказывать об этом дома было стыдно. Обращаться в полицию – смешно, в городе, побившем все рекорды гомосексуализма, этой чумы Востока. Другой раз все это могло окончиться более трагически.
В городе подвизался некий тип Алексей, страшилище наших гимназистов и даже самой полиции. Его знали как начальника боевого отряда армянской самообороны и одновременно как профессионального убийцу и неисправимого педераста. Он всегда носил при себе два маузера, и вся его грудь была обвешана кожаными поясами, набитыми патронами. Один раз он подкараулил меня у входа в наш дом и приставил к моей голове револьвер. Было всего шесть часов вечера, но это был срок, когда вступало в силу осадное положение, и улица была безлюдна. Я как раз возвращался после выгодной покупки по дешевой цене патронов для моего револьвера из какой-то разбойничьей берлоги. Теперь я думаю, что вся эта покупка была подстроенная им мне ловушка. Но тогда я не думал много: как кошка, я прыгнул на середину улицы, лег между рельсами конки и, вытянув свой револьвер, крикнул: «Уйди от двери, иначе я стреляю». Дипломатические переговоры продолжались десять мучительных минут. Наконец, на улице появился казачий патруль, и Алексей должен был уступить мне поле сражения.
Я вошел в дом, весь потный и бледный. Никто не обратил на это внимания. И я был этому рад, потому что все равно никому бы не мог рассказать всего происшедшего. В эти минуты наши родители казались нам очень наивными: они не подозревали даже о том, что мы часто не расстаемся с оружием, о существовании которого они не догадывались. Гимназия облегченно вздохнула, когда Алексея убил такой же другой «Алексей».
Все это не значит, что мы не имели детства. Я издавал традиционный рукописный журнал в одном экземпляре, единственным покупателем которого был мой добрый дядя Давид. Надоедал тете Наде, чтобы она записывала в моей тетради мои первые «новеллы» - редкую чушь.
Страшно страдал, когда нас, евреев-гимназистов, в дни государственных праздников заставляли часами выстаивать в гимназической церкви и вдыхать в себя вонь нестерпимого масла. Особенно меня обижало отношение учителя пения, который решил, что у меня нет совершенно ни того, ни другого - ни слуха и ни голоса. Я его подозревал в том, что он считает меня как еврея плохим кандидатом в свой церковный хор. Я во время уроков пения должен был сидеть позади других и читать книги. Воспользовавшись его заменой новым учителем, я переменил место, заняв его среди солистов. Но и тут мне не повезло. Новый учитель, предложив мне спеть гамму, твердо решил, что вся моя гамма - все одно и то же «ре». Я должен был покориться судьбе и покоряюсь ей до сих пор. Оказывается, что не все учителя пения - антисемиты.
Верхом нашего самодурства в доме была организация домашнего театра. Все три кровати - моя и моих братьев, служили подмостками, занавесями и декорациями служили простыни, измазанные масляной краской, с фантастическими деревьями - плодом свободного искусства. Обыкновенно шла свободная постановка «Принца Вал<л>енштейна», к большому удовлетворению всех детей нашего дома. Но артистическая карьера оказалась так же недолговечна, как и карьера певца. В «Томе Сойере» я играл в школе роль Гекльберри Финна и, по-видимому, не встретил признания своих талантов. Мой партнер, «Том Сойер», впоследствии стал известным кинорежиссером.
И вдруг, после всех этих обычных и необычных болезней ранней юности, крупный разговор с отцом. Он, вспыльчивый по своей натуре, уже готов был ударить меня по щеке, когда я как-то заявил, что «мировой прогресс автоматически решит еврейский вопрос». Он крикнул, задыхаясь от гнева: «Да, и это ты говоришь после того, как Финляндия, символ терпимости и либерализма нашего времени, именно евреям запретила резку скота согласно кашруту». Эта фраза меня сразила.
Я вдруг понял, что отец прав. Что если не иметь своего револьвера, то весь мир, каким бы он ни был хорошим для нас, не больше, чем Алексей. И в этом мы будем виноваты сами, и никто другой. Я вдруг постиг какую-то новую для меня аксиому, она произвела на меня не менее потрясающее действие, чем, если бы я, а не Галилей, открыл простой секрет мироздания. Мой вопрос, наш вопрос, их вопрос - сколько вопросов в то время, как ответ простой: «Только как все, и ни на один волос меньше. И чем это труднее, тем это лучше и прекраснее. Это должно быть сделано, даже если это невозможно. Даже если это означает гибель. Это должно быть сделано>, даже если все будут против, даже все евреи. Я это буду делать, если я буду даже один на всем свете».
Я переживал какое-то истерическое состояние. Не спал по ночам. Иногда плакал. Это был какой-то психологический кризис, как если бы я переживал свою первую любовь. Моей возлюбленной была идея, я стоял перед ней как бы на коленях и целовал ее туфли. В своем возбуждении я перешел все границы: если евреи не хотят ни за что иметь Машиаха, то я стану им, вопреки всем и всему, я их заставлю, даже если меня за это побьют камнями. Это состояние продолжалось недолго, всего каких-либо три дня. Но я отчетливо помню это душевное потрясение, как будто моя душа, раскаленная докрасна, вдруг была опущена в холодную воду и закалилась в сталь.
Через три дня я успокоился. Я стал рабом одной идеи, я надел на свои руки тяжелые и больно царапающие наручники сионизма. Я больше не говорил на эту тему с отцом. Мне было стыдно сознаться в том, что я с ним согласен. Согласен? Нет, я не был только согласен, это было нечто большее, что я никогда не смог выразить в словах. Такие вещи выражаются только в деле, но никогда не в словах.
И, должно быть, мой отец был очень удивлен, когда постепенно стал замечать, как изменился круг моих интересов и моего времяпрепровождения. Но неверно, что я впервые узнал о сионизме только после «Финляндии». Уже мальчиком восьми лет я бегал в синагогу слушать речи приезжавшего в Баку Белкинда[16], собиравшего на положении билуйца деньги на сиротский дом в Ришоне. Видел в синагоге бело-голубой национальный флаг, слышал пение тогдашних сионистских песен и даже «Гатиквы». Как-то раз попал вместе с родителями на ханукальный бал с апофеозом Хасмонеям, устроенный сионистским кружком «Цион» за два года до смерти Герцля. Но для меня это было все равно, как хождение с дедушкой в синагогу - приятная повинность, не больше, чем зрелище. Я помню распрю из-за Уганды, когда тетя Надя водила меня на таинственные заседания, где молодые студенты ломали себе голову «за» и «против», так как открытые заседания были запрещены полицией, всюду видящей еврейскую революцию.
Все это входило в одно ухо и выходило из другого. Это все было так далеко от меня, что я решительно не могу вспомнить, какое впечатление произвела на отца страшная весть о смерти Герцля, хотя, должно быть, он взял меня на панихиду о нем в городской синагоге. Этот сионизм, восторженный и сладкий, с пафосом и сиротскими домами, с шекелями и кружками Национального фонда, был не больше, чем обязательная церемония для торжественных, праздничных дней - любопытная, сентиментальная и часто скучноватая.
То, что я лично пережил через шесть лет, было нечто совсем другое. Сионизм перестал быть модным, интеллигенция, буржуазия и главным образом молодежь повернули к нему грубо спину - как к реакционной фантазии. О сионистах говорили не иначе как о дураках: «Сын аптекаря и сионист - это одно и то же!», «У отца было три сына: старший умница, средний так и сяк, а младший был сионист!» Сионизм стал горьким, у знамени его в провинции оставалась не больше, чем горсточка упрямых маньяков, что-то вроде сектантской синагоги.
Сионизм стал горьким лекарством, хинином против оптимистической революционной лихорадки. После смерти Герцля он был на краю исторического забвения. И все это, и именно это, меня к нему влекло. Какое-то спортивное чувство, процесс оживления мертвого, поединок не в равных условиях - все это варилось и переваривалось в моей душе. Если человеческая история есть не более чем рулетка, я ставлю все, что имею, на этот «квадрат» - сионизм.
Из всех азартных игр игра в историю самая азартная. Это все, что я могу сказать о своих переживаниях этого времени. Ясно, что все это отгородило меня и моих братьев, как непроходимой Китайской стеной, от всего того, что делалось на улице, в гимназии, в стране. Мы стали иммунны ко всему - ко всем пакостям и соблазнам американского города на востоке, к Баку с его миллионерами, шантанами, насилиями, убийствами и сексуальными извращениями.
Мы попали в оазис, который нам же предстояло создать, укрепив и расширив его границы. Нам еще повезло: мы жили в Баку, этом Чикаго Кавказа, с интернациональным населением, где десять тысяч евреев чувствовали себя не в гетто, а не иначе, чем итальянские или ирландские выходцы в большом американском городе. Здесь был калейдоскоп народов и языков, и каждый имел свой флаг. И было естественно, что евреи, как и все, совершенно не считаясь с державностью русских, могли и должны были иметь также свой флаг. Мы были не больше, чем армянский «дашнакцутюн» или татарский «истакал». Мальчик за мальчиком, мы присоединились к нашей банде почти всех лучших учеников-евреев всех учебных заведений, как мужских, так и женских. Мы возвращали им их нормальное подданство.
И, конечно, была еще одна причина нашей «изоляции и иммунитета» - влияние отца. Чем больше мы вырастали, тем больше из грозного, вспыльчивого человека он превращался в нашего доброго старшего приятеля. И лучше всего об этом свидетельствует следующий врезавшийся в мою память эпизод.
Как-то поздно ночью он застал нас в наших комнатах за чтением «Монте-Кристо». После криков электричество было потушено и книга конфискована. Но так как мы как раз остановились на самых жгучих страницах, то, несмотря на полную афела[17] во всей квартире, выждав, пока он уснет, мы принялись за поиски запретной книги, которая мешала нам спать и приводила к опозданию в гимназию. Она могла быть только в кабинете у отца, на его полке с книгами. Но там был свет.
Вдруг дверь отворилась, и на пороге стоял отец с книгой в руке. Теперь он сам читал тот же роман «Монте-Кристо» и как раз на том же месте, где мы прервали ее чтение. Тут же был подписан мирный договор. Он нам читает сам еще полчаса, только до конца главы, и потом мы идем спать. Условия были выполнены добросовестно обеими враждующими сторонами. Договор был подписан в час ночи.
Под влиянием отца мы много читали и постепенно прониклись его вкусами, умея отличить плохое от хорошего. Плакали над судьбой дяди Тома, восхищались Томом Сойером, глотали романы Фенимора Купера, Майн Рида, Александра Дюма, Теккерея, Гюго, Диккенса - «Записки Пикквикского клуба» стали нашей настольной книгой. Отец нам рассказывал, что, будучи студентом, он напечатал в «Восходе» рассказ из своих личных переживаний, но я его лично никогда не видал и впоследствии не мог обнаружить в виду отсутствия комплектов.[18]
Помимо национальных окопов, нас отделяли от бакинского «гангстеризма» еще и проволочные заграждения общечеловеческой культуры. Будучи потом студентом в Мюнхене, я встречал своих коллег-немцев, которые еще не успели познакомиться с похождениями Робинзона Крузо, в то время как я уже был после Золя и даже запретного Мопассана, похищенного со стола бабушки. В Израиле, в «Косите», я был поражен тем, что сидящие за моим столиком три молодых писателя не имели ни малейшего представления о символическом значении похождений странствующего рыцаря Сервантеса.
Когда через несколько дней я по нашему радио целиком выслушал лекцию о Дон Кихоте как демократе, попирающем основы феодально-буржуазного строя, я простил этим молодым людям их круглое невежество. Они не знали того, что я и мои сверстники знали уже в возрасте двенадцати лет.
- ↑ Первая страница отсутствует. Воспоминания начинаются с описания отца мемуариста Вейншала Владимира (Зеэва Бен-Циона) (1863,Гродно -1943, Хайфа), к которому он будет возвращаться неоднократно. Полную биографию В. Вейншала см. в журнале: Ha-Refua, 1933, Vol.7, 295-296 (иврит).
- ↑ Авраaм(Абрам) Вейншал (1893, Кюрдамир -1968, Хайфа), адвокат, доктор юриспруденции, общественный деятель (член Кнессета первого созыва), один из лидеров партии сионистов-ревизионистов.
- ↑ Селение,располагавшееся в те времена неподалеку от Баку, в настоящее время входит в состав города. Татарами Я. Вейншал называет азербайджанцев.
- ↑ Шахсей-Вахсей(искажение от персидского восклицания «Шах Хусейн, вах Хусейн!» -«Царь Хусейн, ах Хусейн!»), или Ашура (от араб. -«десятое»), день траура у мусульман-шиитов, приходящийся на 10-е число месяца мухаррем (или мухаррам -от араб. «священный, заповедный»), первого месяца мусульманского лунного календаря. Траур сопровождается шествиями с самоистязанием плоти в память великомученика Хусейна, внука Мухаммеда, сына халифа Али ибн Абу Талиба.
- ↑ Кади -народный судья, решающий разнообразные тяжбы на основе мусульманского права.
- ↑ Брат матери автора Давид Львович (Арьевич) Ландау – отец физика Льва Ландау, приходяшегося автору двоюродным братом
- ↑ Дед мемуариста Шауль (Савелий) Вейншал был секретарем издававшегося в Петербурге еврейского журнала «Восход» (редактор-издательА. Е. Ландау). После переезда в Тифлис сталздесь казенным раввином. Автор «Краткогоучебного руководителя по еврейскому языку»(Варшава, 1877), вышедшего под именем Авраам-ШмуэльВейншал.
- ↑ Давид Ландау работал инженером в химической лаборатории на одном из принадлежавших Ротшильдам бакинских нефтяных заводов, который в 1912 г., в числе прочих предприятий, был продан англо-голландской нефтяной фирме «Royal Dutch Shell Ko».
- ↑ Дед мемуариста со стороны матери, в чьем роду был крупнейший талмудический авторитет Иехезкель бен-Иехуда Ландау (1713, Опатув, Польша -1793, Прага), духовный руководитель еврейской общины в Богемии. Дед Арье умер еще в Баку, а его жена Фейга (Ципора), бабушка Вейншала приехала в 1922 г. в Палестину, жила в Хайфе, где и умерла в 1936 г.
- ↑ Катр -одна из первых еврейских колоний в Палестине в районе нынешнего Реховота,
- ↑ В статье «Мой отец спас брата Вышинского от смертной казни» (Yedi’otAharonot, 1954, 26. 11,субботнее приложение [иврит])Вейншал раскрывает подоплеку этого «сердечного привета». Семьи Вейншалов и Вышинских были близко знакомы по Баку. Когда брат А.Вышинского Николай выстрелом из пистолета убил девушку-армянку, В. Вейншал, отец мемуариста, выступил как врач свидетелем на суде на стороне защиты. Он отстаивал версию случайного выстрела, на которую якобы указывала траектория пули и характер поражения. Благодаря этому, обвиняемый отделался символическим наказанием.
- ↑ Возможно,имеется в виду известный израильский археолог Игаэль Ядин.
- ↑ Речь идет об Илье Шербетовиче (Шеребетовиче, Шарбатовиче) Анисимове (наст. фамилия Нисим-оглы, 1862, село Тарки Дагестанской обл. - ?), нефтяной инженер, этнограф. См. о нем: Еврейская Энциклопедия (Под общ. ред. Л. Каценельсона и Д. Г. Гинзбурга), Спб. Т. 2, стлб. 582-584; Российская Еврейская Энциклопедия, Т. 1, «Эпос», Москва, 1994, с. 52.
- ↑ Прадедом мемуариста был живший в Вильне писатель и математик Авраам бен Симха Каценеленбоген (1793-1873), он открыл минеральные воды в Друскининкае (до 1917 г. Друскеники), где поныне существует знаменитый курорт.
- ↑ Ицхок-Элиягу Шмулевич Ландау (1801, Вильна - 1876, Вильна), раввин, член религиозного суда в Вильне. Автор многих книг, включая комментарии к комментариям Маймонида.
- ↑ Исраэль Белкинд (1861, Логойск, Белоруссия - 1929, Берлин), один из основателей БИЛУ (группа еврейской молодежи из России, призывавшая к переселению в Эрец-Исраэль). В 1882 г., вместе с другими членами группы, прибыл в Палестину.
- ↑ Афела - темнота (иврит).
- ↑ Имеется в виду рассказ «Человек без предрассудков» о крестившемся еврее, подписанный В. Н. Ш-лъ (Восход, 1889, № 7).
Источник: сб. "Диаспора" - Яков Вейншал "Воспоминания" (стр. 7 - 71)