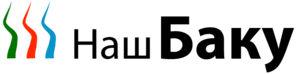Абдуллаева Инна Арнольдовна
Абдуллаева Инна Арнольдовна[править]
1928 - 2021
Инна Арнольдовна Абдуллаева (6 января 1928 года - 14 сентября 2021) - врач-онколог, окончила Первый Московский Медицинский институт, с 1951 года жила и работала в Баку: сначала в поликлинике в Маштагах, потом в детском хирургическом отделении больницы им. Семашко, потом в НИИ онкологии, рентгенологии и радиологических методов лечения, переименованном впоследствии в Онкоцентр, заведовала отделением химиотерапии; кандидат медицинских наук;
Абдуллаева Лейла. Три жизни моей мамы[править]
Портрет поколения[править]
Жизнь моей мамы Инны Арнольдовны Абдуллаевой связана с тремя городами: Москва, Баку, Иерусалим, и в каждом городе она была счастлива. Не потому, что было много для этого поводов… просто она обладала редким умением радоваться жизни, ценить ее, находить поводы для радости.
Может быть секрет ее долголетия именно в этом жадном любопытстве до всего: от нового распустившегося на дереве цветка до политической обстановки в мире.
Она принадлежала к тому поколению, которое, несмотря на все обрушившиеся на него тяготы эпохи, сохранило приверженность высоким идеалам, на которых было воспитано. И не важно, что идеалы оказались некой абстракцией, за которой скрывались жуткие реалии тогдашней действительности, сама вера в них для очень многих людей являлась вдохновляющим стимулом к множеству замечательных дел, которые осуществлялись не за какие-то особые блага, а по зову сердца.
Именно эти идеалы выбросили мою бабушку Фриму Израйлевну Кобылькер из благополучной еврейской семьи в самостоятельную взрослую жизнь в Москве. Она училась на педологическом факультете Новороссийского Университета в Одессе. А потом в Москве многие годы была заведующей детским садом. С мужем своим она разошлась очень рано и воспитывала дочь одна.
Она принадлежала к так называемым беспартийным коммунистам; однажды ее вызвали в соответствующие органы и в деликатной форме предложили информировать «товарищей» о происходящем вокруг; бабушка наотрез отказалась. Ей повезло: последствий не последовало.
Бабушка обладала удивительным даром добиваться послушания, не повышая голос. Последние двадцать лет своей жизни, уже в Баку, она целиком и полностью посвятила моему воспитанию. Помню, как она заставляла меня до изнеможения повторять теорему по геометрии, каждый раз спокойно говоря: «Не правильно, еще раз!» И это при том, что уже тогда было ясно, что мои предпочтения и способности лежат в гуманитарной плоскости. Она была в курсе всех моих дел, включая фортепианные программы и в школе, и в консерватории. Может, в моем лице она получила возможность наверстать все то, что в свое время недодала собственной дочери из-за бесконечной занятости на работе. Тем более, что мой покладистый, спокойный нрав был полной противоположностью взрывной энергии ее дочки.
Благо, моя мама была очень способным ребенком, схватывала все налету и училась прекрасно. В коммунальной квартире, где они жили, висел репродуктор, транслировавший, в основном, классическую музыку. Отсюда – любовь к ней, которую мама пронесла через всю жизнь. Она обожала Шопена, Чайковского, знала множество оперных арий; помню, как захлебывалась от восторга, от пения Монсерат Кабалье. Незадолго до ухода из жизни, услышав, что в Тель- Авивской опере ставят «Итальянку в Алжире», стала напевать увертюру к ней.
Была одна семья, которая прошла через всю мамину, а потом и мою жизнь. Дело в том, что у бабушки была очень близкая подруга Мира Ефимовна, и вот мама близко подружилась с ее дочкой Наечкой Мировой. Это был удивительно светлый, лучистый человек, женщина необыкновенной доброты и харизмы. Инна и Ная стали закадычными подругами…на всю жизнь. Вместе пошли в одну школу №175 [1]которая находилась в Старопименовском переулке. В этой школе учились и дети высокопоставленных чинов: Сталина, Молотова, Микояна, Жукова, внучки Горького и другие.
С некоторыми из них мама дружила, и вспоминала о них с теплотой. Она рассказывала, что в отношении к ним со стороны учителей не было никаких поблажек, хотя были моменты, странные для ее детского восприятия. Например, ее сосед по парте приносил с собой бутерброд с маслом и черной икрой и искренне недоумевал, почему Инна «предпочитает» черный хлеб, посыпанный сахарным песком. Был еще один эпизод. Она дружила с внучкой Горького Дарьей Пешковой. Как-то та пригласила ее в гости. И когда перед мамиными глазами предстал роскошный особняк, огромный стол с самыми изысканными блюдами и обслуживающими гостей слугами, в ее сознании произошел некий сдвиг: «Как же это все связать с тем, что Горький – пролетарский писатель, выступавший против угнетения трудящихся!» Но та же Дарья как-то достала билеты всему классу на премьеру нашумевшего спектакля, и никому из детей не пришло в голову заплатить за них.
Война вторглась в жизнь 13-летней девочки, оставив неизгладимые воспоминания о паническом бегстве из Москвы, о голоде и холоде в эвакуации. А потом было возвращение домой и в родную школу.
Мама часто вспоминала своих учителей, многие из которых остались преподавать в школе еще с гимназических времен: «Они нас учили так, что нам было интересно!» В результате, мама и в конце жизни цитировала на немецком «Erlkönig» Гете, стихи Гейне, обожала и прекрасно знала географию, не говоря уж о любви к литературе, театру.
Сначала мама хотела поступать на филологический факультет МГУ, по стопам своей подружки Наечки, которая была филологом от Бога и впоследствии стала совершенно необыкновенным педагогом и исследователем русской литературы. Но потом все-таки она решила поступить в медицинский институт, который закончила с отличием, влюбившись в профессию врача на всю жизнь.
Как-то на международной конференции она познакомилась с врачом, приехавшим из Азербайджана. Оказалось, что у них много общих интересов, особенно, касающихся медицины. Он попросил ее показать ему Москву, которую, как выяснилось, очень неплохо знал. Кончилось тем, что, несмотря на разницу в возрасте (10 лет) и национальную принадлежность (удивительно, но ее выбор одобрили все еврейские родственники), она вышла замуж за Вейсала Абдуллаева[2] и в 1951 году переехала жить в Баку. Для московской девушки это был шаг, в который она сама долго не могла поверить. Думала, что это ненадолго. Но оказалось, что на 42 года…
Первые несколько лет Баку продолжал оставаться для мамы глубокой провинцией. Больше всего она тосковала по друзьям, но и по театрам, вообще – по культурной жизни. Она даже рожать поехала в Москву, при том, что моя бабушка не смогла навестить ее в роддоме, так как именно в это время была на даче с детским садом (немыслимая для нас ответственность!).
Забирал ее домой, дядя Яша, Наечкин отец, коммунист-идеалист, которому, при том, что он занимал довольно ответственный пост, удалось уцелеть в годы сталинской мясорубки. Возможная причина была в том,что в годы предвоенных репрессий его командировали в Гянджу, тогдашний Кировабад, руководить летной школой испанских интернационалистов.
В отличие от мамы, которая, вплоть до хрущевской оттепели, оставалась убежденной комсомолкой, папа никогда не питал особенных иллюзий в отношении советской власти; это частенько приводило и к жарким спорам в семье. Вообще, предметом споров между родителями, как правило, были проблемы высокого порядка: или политика, или медицина. Если говорить о жизненных ценностях, то для них обоих таковыми являлись вовремя поставленный диагноз или серьезная научная статья. По своей специализации мама была онкологом, папа – патологоанатомом, и все мое детство прошло среди разговоров о медицине. Думаю, подобное отношение к своей профессии провоцировалось и самим общественным климатом 50-х – 60-х годов с его культом науки и просвещения; например, родители регулярно посещали Онкологическое общество, которое проводилось в Доме медработников, и на котором они частенько выступали с докладами.
Под впечатлением царствующих в нашей семье медицинских проблем я в шестилетнем возрасте тоже написала «доклад», который начинался словами: «И в желудке бывает рак»…
Постепенно Баку становился для мамы все более родным. Были две вещи, которые потрясли ее с самого начала и которые для нее, москвички, до конца жизни оставались воплощением чуда природы: море и виноград. Одно из сильных первых азербайджанских впечатлений – гроздь золотого «шаны», свешивающаяся над ее кроватью в саду на бакинской даче. Но главное, конечно, - люди. Причем не только тот круг общения, который постепенно у нее сложился и состоял, в основном, из врачей, но и простой народ, теплоту и гостеприимство которого она сразу оценила. Очень скоро она завоевала не просто уважение, но искреннюю любовь со стороны многочисленной папиной родни. Именно к ней, а не к папе (тот был неизменно занят научной работой) обращались со всеми медицинскими проблемами родственники и знакомые; и с каждым она возилась, тщательно вникая в суть проблемы и стараясь помочь.
Особенно ее полюбили шекинцы, которые были частыми гостями в нашем доме. Когда в молодом возрасте умерла папина сестра, именно мама согласилась взять оставшуюся сиротой ее дочку Махиру, которая стала членом нашей семьи; мама всю жизнь называла ее Люба (с легкой руки домработницы-молоканки). Доставалось нам обеим от нее частенько: характер у мамы был отнюдь не легкий, взрывной, непредсказуемый, но зато когда она бывала в хорошем настроении, весь мир вокруг начинал петь. Ей совершенно не свойственна была рефлексия; она никогда не сомневалась в своих поступках, наверное, оттого, что они всегда шли от чистого сердца. Приспосабливаться, льстить, лукавить, даже проявлять какую-то разумную осторожность в высказываниях – все это не про нее. Любая кажущаяся ей несправедливость вызывала взрыв негодования, и она тут же обрушивала его в лицо людям, которые, как ей казалось, имеют к этому отношение. При этом не щадила и близких. Могла сказать в лицо близкой подруге: «Не ври!» В ней не было равнодушия. «Мама, ну какое тебе до этого дело?!» - часто недоумевала я, но она искренне вникала в чужие судьбы, и именно ее неподдельное неравнодушие к ним вызывало все ее резкости.
Подобное умение вызывать огонь на себя, безусловно, рождало у окружающих недоумение, но все перевешивала чистота помыслов, которую люди безошибочно чувствовали, а потому ее любили и уважали. Будучи по определению далекой от азербайджанской культуры, мама старалась познакомиться с ней, и не только из-за уважения к папе, а из-за этого своего неуемного интереса ко всему новому. Мугам она, конечно, так и не смогла понять, но вот азербайджанские песни, особенно в исполнении Шовкет Алекперовой, заслужили ее искренний восторг. Они с бабушкой очень хотели, чтобы я выучила азербайджанский язык, посылали меня на лето в Шеки, но все без особого результата. Сама мама с удовольствием пыталась говорить по-азербайджански, естественно, с жутким русским акцентом. Она обожала азербайджанскую кухню и научилась готовить почти все национальные блюда. Мне она обычно пеняла, что я недостаточно скрупулезна в приготовлении, например, плова: «Масло не забудь перетопить, гой ийгяльсин!»
Первым местом маминой работы стал поселок Маштаги. Она выучила несколько вопросов по-азербайджански, которые задавала больным, и получая ответ на которые, составляла представление о предполагаемом диагнозе. Как-то, по дороге на работу в электричке она познакомилась с женщиной ее возраста, тезкой, невропатологом, работающей в сабунчинской больнице. Так она приобрела в Баку близкую подругу– Инну Шубенко, (соответственно, сблизились на всю жизнь и их дочки - две девочки: Леля и Олечка). Оказалось, что ее муж Сергей Александрович Багатуров дружит с нашим соседом Пашой Пириевичем Гулиевым; его жену мама и тетя Инна так и называли: Ляля Пашинская (пройдут годы, и так сложатся обстоятельства, что внук тети Ляли Джавад женится на внучке папиного брата Лютфали Абдуллаева).
О дяде Лютфали следует сказать особо. После звездного фильма 1945-года «Аршин Мал алан» его имя стало своего рода пропуском в самые различные высокие инстанции для всей его многочисленной семьи. Он, тогда еще холостой, частенько наведывался в гости к родителям в их однокомнатную квартиру, принося с собой всякие вкусности и сдабривая их шутками. У Лютфали была одна, ставшая легендарной, черта характера: пользуясь всенародной к себе любовью, он охотно помогал людям, причем порою, почти незнакомым, что уж говорить о родственниках! Делал он это так легко и вдохновенно, что почти всегда добивался искомого результата. Именно по его протекции мама стала работать в хирургическом отделении знаменитой больницы им.Семашко, той самой, где работал тогда мой отец. Очень быстро у нее сложился свой круг общения: Сафура Лемберанская (которую ласково называли Ханумша), Софа Гусман, Талла Оленова, Дора Лукомник; душой компании был обаятельнейший Мусик Мир-Касимов.
Помню, каким шоком стала для всех его безвременная кончина. При том, что все эти люди были великолепными специалистами своего дела, круг их интересов охватывал разные сферы культуры. На дворе стояла хрущевская оттепель. А значит,с жаром обсуждались новые опубликованные романы, стихи, фильмы. На концертах в филармонии я привыкла видеть завсегдатаев – маминых коллег, в основном, онкологов и рентгенологов: красавицу Музу Ахундову, очаровательную Лейлу Рамазанову (одну из маминых близких подруг), неизменно сыпавшего анекдотами Рауфа Сафаралиева (его дочка Лейла и племянник Теймур будут потом учиться со мной в консерватории). Особенно запомнился высокий, статный старик рентгенолог Ровшан Мамедович Халилов: он был знатоком и ценителем классической музыки, нередко критически высказывался о том или ином исполнении.
Очень хорошо помню наш с мамой восторг от первых выступлений Фархада Бадалбейли; она и в дальнейшем старалась не пропускать ни одного из его концертов, не в пример мне, с моим снобизмом молодости…(этим снобизмом она меня все время попрекала).
Не принимая непосредственного участия в моем воспитании, мама, тем не менее, оказала решающее влияние на формирование моих вкусов, не терпя ни малейших проявлений сентиментальности в стихах, фильмах. В ней самой не было ни грамма сентиментальности, при всей ее огромной теплоте, она не была ласковой матерью: никаких уменьшительно-ласкательных прозвищ и очень большая доля критики в мой адрес. Только в последние годы она стала хвалить меня за мои статьи, при этом неизменно добавляя: «А теперь послушай критику!» При этом её излюбленной фразой была: «Не клади весь сыр в один вареник!»
В середине шестидесятых папа с мамой перешли на работу в Институт онкологии и рентгенологии. О людях, представлявших лицо этого лечебного центра, стоит сказать особо. Потому что, мало того, что они были первоклассными врачами, они еще были людьми с определенной шкалой ценностей. Многие из коллег моих родителей становились их близкими друзьями. Были супружеские пары: аристократ с голубыми глазами, добрейший и благородный Шамси Бейбутов и его жена –Тамилла (с их дочкой Гюлей мы будем вместе учиться на филфаке); СабирТаги-заде и его супруга Халида, женщина с какой-то врожденной интеллигентностью и тактом; Давид Розин и его жена Вета Гальперина… Имена коллег моих родителей вошли и в мою жизнь: ученый секретарь института Рая Жукова, рентгенолог Лена Комлева (она останется маминой подругой до самого последнего дня: живет сейчас в Израиле), Исмаил Аббасов, Сабир Алиев. Всеобщим любимцем был Александр Гайкович Наджаров, хирург от Бога. В нем было намешано много кровей, при этом, для всех он был живым воплощением русского интеллигента чеховского типа. Некрасивый, в очках, он, тем не менее, излучал необыкновенное обаяние. Бывало, папа говорил ему: «Ты – беюк доктор», а тот ему в ответ: «Нет, это ты – беюк доктор». Папа, несмотря на то, что был в институте не самый старший по возрасту, пользовался огромным уважением среди коллег. Не только потому, что редко ошибался в своих гистологических заключениях; но еще и оттого, что мерил жизнь по шкале высоких ценностей и сквозь призму соответствующих требований, прежде всего, к самому себе.
Он много чего пережил в жизни. Сначала шекинский паренек с какой-то фанатичной тягой к учебе поехал в Баку, где поступил в Медицинский институт. Со своими однокашниками он поддерживал связь и дружбу до конца жизни, мало того, был инициатором всех их встреч уже годы спустя. После окончания учебы в сорок первом году попал в армию в Беларусь; начавшуюся войну солдаты приняли за начало грозы…так в составе окруженных частей он оказался в плену. Были страшные моменты: например,однажды его чуть не расстреляли, приняв за еврея. Но в целом можно считать, что ему повезло: немец-врач взял его к себе ассистентом и относился к нему вполне по-человечески. Зато после войны уже на родине ему этот самый плен не простили и из аспирантуры вышибли. Он тогда пообещал ректору мединститута Бахадуру Эйвазову, что тот ему все равно будет вручать диплом кандидата наук, что впоследствии и произошло. Вот тогда из уст Эйвазова прозвучало: «Киши сен!»
Он был очень целеустремленным и работоспособным человеком, но в то же время, в отличие от мамы, ему была свойственна огромная рефлексия, которая определяла его отношение и к науке, и к людским поступкам. Был случай, о котором любила вспоминать мама. Александр Гайкович, как это часто свойственно талантливым людям, никак не мог закончить докторскую диссертацию. Его больше интересовала хирургическая практика. И вот настал момент, когда на его место заведующего хирургическим отделением подал документы новоиспеченный доктор наук. Вроде бы все законно. Этот человек был вполне хорошим профессионалом, мало того, еще и маминым руководителем кандидатской диссертации. Но папа сразу сказал ему: «Я буду голосовать против». И вот началось заседание, на котором должен был решиться вопрос. Последним выходит на трибуну профессор Вейсал Абдуллаев и начинает говорить так, что у всех медсестер, стоящих у дверей, текут слезы. В результате, исход голосования решен в пользу старого заведующего. После этого сам тот человек, пришел к папе и сказал: «Ты оказался единственным, кто был со мной честен». Кстати, для него впоследствии нашлось весьма престижное место.
Папа умер внезапно от инфаркта в 54 года. Это стало огромным ударом для всей нашей семьи, но особенно, конечно, для мамы. Она не могла в течение долгого времени заставить себя элементарно выйти из дома. И вот как-то утром, к ней приходит Инна Шубенко и говорит: «Давай, одевайся, внизу ждет такси, я отвезу тебя на работу…» На маму свалилась в одночасье огромная ответственность за всю семью: мы с Махирой были еще не замужем, чтобы мы не почувствовали разницы в уровне жизни, она стала работать еще в двух местах. Хорошо, что в свое время папа буквально заставил ее защитить кандидатскую. Постепенно жизнь вошла в свою колею.
В Институте ее очень ценили; она была первым специалистом, налаживавшим методику лечения химиотерапией в Азербайджане, много раз бывала по этому поводу в Москве, потом стала заведующей отделением химиотерапии. Больные ее обожали. Уже после ее отъезда ко мне часто подходили со словами благодарности родственники ее бывших больных. Вот ведь как интересно: в то время и в помине не было современной аппаратуры и технологий, лечили, как говорила мама, словом и интуицией: «Когда мы видели, что ничего нельзя сделать, про себя говорили: Аллах кемекэлесин». Мама дружила с моими подругами, которые воспринимали ее как свою ровесницу. Остроумнейшая РенаАгаева называла ее Иннусей. Когда нас по окончании консерватории распределяли, и мама не воспользовалась близким знакомством с самой высокопоставленной в республике дамой, Рена сказала фразу, которая вошла в анналы нашего семейного юмора: «Твоя мама – не еврейка, а узбек»…
В 77 году ушла из жизни моя бабушка, к тому времени мы с Махирой были уже замужем, и у мамы появились новые обязанности – воспитание внуков. Потом был восторг от перестройки, гласности с хлынувшей свободой, книгами, фильмами, толстыми журналами; мы все время сетовали: жалко, что папа не дожил до падения советской власти.
Об эмиграции в Израиль она никогда не думала: решение созрело, когда в условиях раздоров и неопределенности мы отправили туда моего старшего сына в возрасте 16-ти лет. Год он жил там один, под опекой наших близких друзей, но присутствие бабушки стало необходимым. Казалось бы, расстаться с любимой работой было равносильно отказу от самой себя. Но к тому времени сама обстановка в любимом институте стала меняться. Из старой гвардии часть ушла из жизни, часть уехала. Им на смену пришли молодые, многие из которых являются вполне хорошими профессионалами, но им не хватает той внутренней культуры, которая позволила бы поставить врачебную этику выше реалий и ценностей нового времени.
Относительно недавно мне самой пришлось столкнуться с подобными молодыми специалистами, которые при сомнительном диагнозе сразу объявили больному неутешительный приговор, не захотев, не удосужившись и не умея вникнуть в явное несовпадение имеющихся данных. Зато (тут надо отдать должное руководству больницы) какой потрясающий ремонт сделан: внешний антураж Онкоцентра, включая и современную аппаратуру, не хуже, чем в знаменитой израильской больнице «Хадасса».
Последней каплей для мамы тогда, в начале 90-х,стала небрежно брошенная фраза молодого врача (кстати, сына очень уважаемого человека) в отношении старика со сложной диагностикой: «Ну что с ним возиться, все равно старый». После этого она пришла домой и сказала: «Все, нужно уезжать».
94-й год выдался для нас тяжелым: летом в Москве скоропостижно умерла моя ближайшая подруга Ира Вартанян; она любила меня как сестру, была завсегдатаем в нашем доме; сразу оценив натуру моей мамы, перешла с ней на ты; именно благодаря Ире, я сблизилась с двумя моими теперешними подружками – сестрами Милой и Азой Гусейновыми (Аза – замечательный музыкант, живет сейчас в Анталии). В конце того же года после тяжелой болезни умер муж нашей Махиры весельчак и балагур Тахир, умер совсем молодым в 49 лет. Мама покидала Баку с тяжелым сердцем, но полная решимости принести пользу семье в новом качестве.
В Израиле ее ждали друзья - бывшие бакинцы. Среди них врачи: Ира Халдеева и Дора Лукомник. А еще – мать моей подруги – пианистки Эллы Народович - Любовь Мироновна Гендлер. Будучи хорошими знакомыми в Баку, здесь, в Иерусалиме, они стали просто неразлучными подругами: обсуждение книг, телевизионных передач, решение кроссвордов, жаркие дискуссии об израильской политике, доходящие до споров на повышенных тонах.
Ее очень поддерживала и морально, и материально моя бакинская подружка Шеля Хаит, которая, живя в Израиле с 79-го года, была в курсе всех тонкостей здешней жизни. Чтобы помочь всей нашей семье, мама стала подрабатывать по уходу за стариками: учить иврит и сдавать экзамены на врача было уже не по возрасту. Тем не менее, с медициной она не порвала, была в курсе всех новинок; к ней часто как к врачу обращались за советом многие знакомые. Израиль и Иерусалим она полюбила сразу. Начисто лишенная национализма, мама, в то же время, не была космополиткой, она всегда ощущала себя частью своего народа (в свое время папа шутливо называл евреев «древней расой»). Но с еврейской традицией она познакомилась именно в Израиле.Так же, как в свое время в Баку, она была открыта ко всему новому, ее интересовали и обычаи, и культура. При этом, как «двести процентная» еврейка, она позволяла себе весьма критические высказывания в адрес своих: с безапелляционностью утверждала,что палестинцы в Газе живут в гетто. Впрочем, по поводу израильских арабов говорила, что они должны ценить те блага, которые им предоставляет государство Израиль. То есть она была начисто лишена той кондовой прямолинейности: вот это – так и никак не иначе, которая, как правило, отличает людей недалеких.
Она обожала Иерусалим, говорила, что он продлевает ей жизнь, наслаждалась цветением бугенвиллий, ждала, когда распустится миндаль в феврале, знала каждое деревце в ее любимом парке. Целиком посвятив себя внукам, она решила вникнуть в круг их музыкальных интересов: стала поклонницей Фрэди Меркури, когда вышел фильм «Стена», прониклась искусством «Пинк Флойд».
Ей было уже 90 лет, а она до поздней ночи могла смотреть Евровидение, дожидаясь результатов голосования; что уж говорить о телевизионной игре «Что, где, когда?», ярой болельщицей которой она оставалась до конца жизни. Большим подарком для нее стал наш переезд в Израиль. Мужа моего она любила как сына, ласково называя Окташей, но, безмерно уважая его за интеллект и талант, не очень внимала его доводам профессионала по поводу той или иной политической ситуации, предпочитая оставаться при своем мнении, в основе которого всегда оставались ее представления о добре и зле.
В последний год жизни она перечитывала Пушкина; некоторые строфы «Онегина» снова и снова читала мне вслух; как-то, дойдя до последней сцены, воскликнула: «А ты помнишь, какая мелодия звучит в опере при появлении Татьяны на балу! Ведь как точно Чайковский написал!»
Она обладала редкой способностью замечать и оценивать красоту во всем: в природе, в искусстве, в обыденной жизни - и быть от этого счастливой.
Мама опекала и подкармливала друзей моих сыновей, была в курсе их сердечных проблем, которыми они охотно с ней делились. Она приняла участие в жизни Лейлы, дочки моей подруги Рены Алиевой, когда девочка оказалась одна в Израиле. Именно Лейла была последней, кто поздравил ее по телефону с праздником Рош-А-Шана. Мама тогда сказала уже слабым голосом: «Наверное, я была неплохим человеком».
Почти до конца дней она сохраняла трезвый ум, великолепную память и интерес к жизни. Не могла себе простить, что прозевала у самой себя страшный диагноз. В последние два тяжелых месяца ее болезни рядом с нами все время была семья ее любимой Наечки: дочь Катя и внучка Аня…А несколько лет назад в Иерусалим приезжала старшая дочь Наечки – Ирина Щербакова, тогда ее коллеги по обществу Мемориал сделали с мамой двухчасовое интервью, где она рассказала о своей жизни… в Москве, Баку, Иерусалиме.