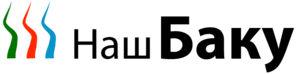Таир Салахов "Город моей молодости"
Таир Салахов "Город моей молодости"[править]
Воспоминания о родном Баку и друзьях из прошлого выдающегося азербайджанского художника Таира Салахова, которыми он поделился по просьбе Бахрама Багирзаде.
ГОРОД-ТРУЖЕННИК, ГОРОД-ГЕРОЙ! Мой Баку – это великий, просмоленный суровыми ветрами работяга, оттирающий соленый пот своими крепкими загорелыми руками. Это город-труженик, живущий в особом ритме тысяч нефтяных вышек, пронзивших своей индустриальной графичностью бездонную синеву южного неба и создавших новую эстетику красоты.
Вспоминая детство, я все чаще ловлю себя на мысли, что самые яркие мои воспоминания связаны, прежде всего, с бакинцами, в общении с которыми я познавал все стороны жизни.
Как это ни странно, но дом №7 по Касума Измайлова, в котором я родился и вырос, до сих пор еще сохранился. Недалеко от него, на месте нынешнего здания МВД, находилась большая пекарня, откуда по всей округе распространялся вкуснейший запах горячего хлеба.
В годы войны, проходя мимо этого места, мы буквально всем телом впитывали этот потрясающий, но такой недоступный для нас аромат, потому что хлеб можно было купить только по карточкам, да и то, отстояв бесконечную очередь.
До войны я ходил в детский садик, который располагался на территории храма Александра Невского. А потом его начали разбирать, и мы, окрестные мальчишки, часто туда заходили.
Помню, как деревянные купола распиленной шатровой части, сваленные в угол двора, постепенно заваливались и рассыпались, помню, хотя и смутно, его великолепное внутреннее убранство – роскошные иконы, резьбу по дереву, алтарную часть…
Моя школьная жизнь была сплошной чехардой – сначала я пошел в 6-ую школу, там мы учились вместе с девочками. Потом нас разъединили, и я стал ходить в 189-ую. Затем меня опять перевели, на сей раз в школу №132, а потом опять направили в 6-ую.
Главным летним развлечением были, конечно же, купальни на бульваре, где спасателем работал мой одноклассник Анатолий Жуляев. Он многому нас научил – и плаванию, и навыкам спасения, и, самое главное, осторожности в общении с водной стихией.
Толя жил в крепости, и иногда мы к нему забегали в гости, а его отец, который работал на лимонадной фабрике, готовил для нас потрясающий лимонад. Кстати, лимонадная фабрика находилась тогда около 6-ой школы и снабжала своей продукцией весь город.
В нашей мальчишеской компании Толя был безусловным лидером – волевой, крепкий, загорелый здоровяк. Тогда это были очень важные качества для мальчишки, потому что весь город был поделен на районы, и пацаны бесконечно выясняли между собой отношения. Но меня эта сторона жизни как-то не коснулась, поскольку я довольно рано начал заниматься рисованием, и все меня знали как художника. Я жил своей жизнью, был человеком из другой сферы, и меня воспринимали как чудака.
1937 год навсегда изменил жизнь нашей семьи. Моего папу, который в то время был первым секретарем Лачина, сначала сняли с работы, а потом арестовали, и у мамы на руках осталось пятеро детей.
С этого года у нас настали трудные времена, и я до сих пор не перестаю удивляться, как ей в одиночку, потому что многие тогда от нас отвернулись, удалось нас поднять?
А школу мне пришлось временно бросить – надо было зарабатывать на жизнь, и мы с братом устроились контролерами в Бакводопровод.
Это очень расширило мой кругозор и на жизнь, и на людей, потому что целыми днями мы ходили по домам, учреждениям и фабрикам и проверяли счетчики. Помню, когда мы проверяли кондитерскую фабрику на Шемахинке, то женщины, которые там работали, нас просто закармливали разными вкусностями. Тогда же были очень суровые законы, и они не могли вынести даже конфетки для своих детей, а тут появлялись мы, два долговязых и худеньких пацана, и у них тут же срабатывало материнское начало – накормить, погладить по голове, сказать какие-то теплые слова.
Раньше вообще люди были добрые и сердечные. Для них не играло роли то, что мы были семьей «врага народа», и к нам относились с большим сочувствием. Наверное, только благодаря этому мы и поднялись.
Спустя годы, в 1966, пытаясь выяснить судьбу отца, я обратился с просьбой к Гейдару Алиевичу Алиеву, который тогда был заместителем председателя КГБ, и он достал из архивов его дело. Тогда я впервые переступил порог этого здания возле клуба Дзержинского и вошел в кабинет Гейдара Алиевича. Он занимался своей работой, а я часа три читал эти материалы, и что в этот момент творилось в моей душе, не поддается никакому описанию.
4 июля 1937 года после заседания «тройки», которое длилось всего пятнадцать минут, папа был приговорен к высшей мере наказания с формулировкой:
- «Приговор привести в исполнение немедленно».
В деле сохранилась справка о том, что приговор приведен в исполнение в такой-то час и в такой-то день 4 июля, но где это произошло, и где он был похоронен, я не знаю до сих пор. Иногда на кладбище, где похоронены мама и два моих брата, мне задают вопрос: «А кто у вас был папа?» И мне всегда бывает тяжело на него отвечать.
В 1944 году я стал художником в Парке культуры и отдыха имени Кирова, где кроме качелей и каруселей был замечательный летний театр, для которого я и рисовал афиши.
Самое большое впечатление от этой работы я получил во время гастролей Александра Николаевича Вертинского. Тогда по городу пошли слухи, что к нам едет большой артист из-за рубежа, чуть ли не из Китая. Если я не ошибаюсь, именно в Баку состоялись его первые гастроли после возвращения в СССР. Вертинский уже тогда был всемирно известен, за долгие годы эмиграции он общался с Шаляпиным, Маяковским, Марлен Дитрих, Чарли Чаплином, Анной Павловой и даже с князем Юсуповым, который убил Распутина.
Суровое, военное время. Комендантский час с 12 ночи до 6 утра, никто не имеет права передвигаться по городу.
А я ночами напролет рисовал на асфальте безлюдного Баку афиши. Причем, таких «асфальтовых реклам» должно было быть целых двадцать в разных частях города – на Баксовете, около Ахундовского садика, вокзала, Парапета. Текст был простой и короткий – «Большое массовое гуляние в парке имени Кирова», или же «Впервые в Баку! Концерт Вертинского». В 40-е годы такие афиши на дорогах были очень модными.Это сейчас все задирают головы, чтобы прочесть растяжку, а тогда вся информация была у людей прямо под ногами – иди себе и читай.
Мне, шестнадцатилетнему пареньку, выдали, как полагается, пропуск, и я принялся за дело. Мне хорошо запомнился абсолютно пустой затемненный город, почти звенящая тишина и мерный, четкий шаг патрульных, которые обходили вверенные им участки. Иногда они часами простаивали возле меня, с удивлением наблюдая за моей работой, потому что на их глазах на черном от морского влажного ветерка асфальте рождался какой-то непонятный объект. Солдаты получали от этого такое большое удовольствие, что делились со мной своим пайком. Кстати, недавно одна дама написала обо мне статью, которую так и назвала – «Я начал с асфальта».
Когда же, наконец, приехал Вертинский, то оказалось, что некому открывать и закрывать занавес, и это дело поручили мне, как самому молодому сотруднику. Вертинский меня тщательно проинструктировал об условных жестах – когда он поднимет руку, я должен открывать занавес, если опустит – медленно закрыть.
В парке Кирова состоялось три его концерта, и это были три самых счастливых дня того периода моей жизни. Он вышел на сцену – высокий, в белом фраке, с напудренным лицом и пел, сильно грассируя, стараясь не столько продемонстрировать голос, сколько донести до нас смысл своих песен. И хотя мы, советские люди, были абсолютно не знакомы с такой манерой исполнения, публике все это ужасно понравилось.
Вертинский покорил тогда бакинского зрителя, и на его концерты приходили толпы народа, несмотря на войну, безденежье и то, что парк находился в верхней части города, и до него было трудно и долго добираться, потому что это был практически конец Баку, и за парком начинался пустырь.
Я всегда смотрел, как в антрактах Вертинский приводил себя в порядок. Видя такой интерес к своей персоне, он ласково называл меня на американский манер – my boy. Прощаясь, он подарил мне свою расческу и сигареты Camel, хотя я и не курил.
А спустя несколько лет судьба опять нас свела, на сей раз уже в Москве, где я учился в суриковском институте с его женой Лилей. Хотя она была курсом выше, мы очень сдружились, и я стал вхож в их дом. Что особенно приятно, Вертинский меня узнал!
С тех самых пор я дружу уже не с одним поколением этой удивительно творческой и талантливой семьи – и с Анастасией, и с Машей, и с ее дочерью Сашей, которая училась у меня на курсе, когда я преподавал в Суриковке.
Баку в военные годы – это напряженный трудовой ритм. Все время по улицам города двигались в разные стороны войска – они прибывали транзитом из Средней Азии и шли через Баку. Мне запомнились их суровые лица и чеканный полустроевой шаг. Надо сказать, что это производило на бакинцев сильное впечатление, потому что мы уже не просто знали, что где-то идет война, а видели ее своими глазами и становились как бы участниками происходящих событий.
А вечерами наступало полное затемнение города. Бывали дни, когда вдруг начинала жутко завывать сирена, предупреждая о подлетающих к городу немецких самолетах. Тогда появлялись огромные белые лучи прожекторов, которые планомерно «прощупывали» черное небо. Когда они находили самолет, по нему сразу же начинали стрелять зенитки.
Я несколько раз видел эти схватки своими глазами, потому что в тот период, когда немцы были под Моздоком, они раза два в неделю прилетали бомбить Баку. К счастью, фашисты из-за нефти, видимо, так и не решились сравнять город с землей. Но и наша оборона была серьезной – почти у каждой нефтяной вышки на промыслах стояло зенитное орудие.
Однажды на пристани в Черном городе я увидел необычную конструкцию из цистерн, которые как бусы нанизывали на прочные тросы. Потом мне рассказали, что когда нефть не могли отправлять железнодорожным транспортом, в Баку изобрели это специальное устройство из цистерн – из них образовывали целые караваны, и какая-нибудь баржа тащила за собой эту «гроздь» вплоть до Астрахани. Не знаю, кто это придумал, но во время войны было очень много подобных открытий и находок.
Прекрасно помню голос Левитана, сводки с фронта и первых наших героев – Исрафила Мамедова и Зибу Ганиеву, девушку необычайной судьбы, настоящую героиню, которая так и не получила звания Героя Советского Союза.
Узбечка по матери и азербайджанка по отцу, Зиба родилась в Шемахе, но при живых родителях фактически осталась сиротой. Ее мать была репрессирована, а отец вынужден был от нее отказаться, чтобы спасти ей жизнь и свободу.
В 1940 году Зиба поступила на актерский факультет ГИТИСа. А 7 ноября 1941 года, сразу же после парада на Красной площади, ушла защищать Родину. Она была радисткой, и в составе группы шестнадцать раз ходила за линию фронта, затем автоматчиком на танке защищала Москву, а потом стала снайпером.
О ее подвигах узнала вся страна – во всех центральных и местных газетах были помещены ее фотографии и сообщение о том, что она из снайперской винтовки уничтожила двадцать врагов. Хотя в одной из бесед она мне сказала: «Таир, я убила сто двадцать девять фашистов».
В 1942 году Зибу тяжело ранило. Рискуя жизнью, товарищи вынесли ее с поля боя. Зибу чудом удалось отправить на самолете в Москву.
Она попала в госпиталь, где за ранеными тогда ухаживала Мария Федоровна Шверник, жена Председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Михайловича Шверника. Она буквально спасла Зибе жизнь, потому что девушка умирала от заражения крови. Целых одиннадцать месяцев Мария Федоровна не отходила от ее постели, а когда та поднялась на ноги, то со слезами на глазах сказала: «Все нормальные женщины носят ребенка девять месяцев, я же тебя вынашивала одиннадцать». Так Зиба стала дочерью Николая Михайловича и Марии Федоровны.
За подвиги во время Великой Отечественной войны Зиба была награждена самыми разными орденами и медалями, в том числе орденом Боевого Красного Знамени, но звания Героя Советского Союза, которое она заслужила, Зиба так и не удостоилась. Но я уверен, что время все расставит по своим местам, и потомки увековечат память нашей выдающейся соотечественницы. Кстати, после войны Зиба Ганиева снялась в фильме «Тахир и Зухра», она ведь была очень красивой женщиной и сыграла там роль персидской шахини.
Послевоенный Баку был потрясающий – вовсю заработала Кубинка, роскошный рынок, как из фильма «Багдадский вор».
Кубинка располагалась на холмистой местности, и народ сам образовывал торговые «ленточки», между которым плотным строем двигались огромные потоки людей. Здесь можно было купить все, что хочешь – американскую тушенку и сигареты, заграничную одежду и модные тогда американские туфли на толстой каучуковой подошве, и вообще появилось огромное количество трофейных вещей. Тут же что-то готовили, пекли, жарили…
Было довольно много раненых, безруких и безногих инвалидов, которые что-то продавали, это производило тяжелое впечатление, но рынок жил по своим законам. Многие бакинцы по воскресеньям ходили туда не только за покупками, но и просто так, прогуляться. Война войной, а мы, отгороженные от всего мира «железным занавесом», впервые соприкоснулись с тем, что в мире существуют такие вещи и такие машины.
Помню, тогда трое наших бакинских художников вскладчину купили единственный на весь город, попавший к нам неведомыми путями, трофейный BMW кабриолет.
Баку начал становиться праздным. По воскресеньям все фланировали по Торговой, Ольгинской и Зевина до бульвара и обратно. Это был такой своеобразный обязательный променад, на котором все бакинцы встречались, общались и дышали новым воздухом свободы.
Позже, когда по бакинским улицам стали фланировать стиляги, одним из самых крутых считался художник Мехти Гумриев. Если он не появлялся по воскресеньям на Торговой, то все остальное было уже не интересно, потому что он был своего рода законодателем моды, и вокруг него всегда собиралась целая толпа подражателей и тех, кто хотел «засветиться» в его компании.
В то время бакинская молодежь страшно увлекалась джазом. Но наша компания художников больше интересовалась оперным искусством, поскольку мой друг, Тогрул Нариманбеков, обладал прекрасным оперным голосом и любил исполнять арии Каварадосси и Риголетто.
В 1949 году в поселке Монтино, в районе нынешнего БТИ, некоторым художникам – Мирза-заде, Саламу Салам-заде, Микаилу Абдуллаеву – дали мастерские. В этом же году, ко дню рождения Сталина, они должны были сделать для музея его же имени панно. Сам же музей находился в весьма необычном месте – около 6-ой школы за музеем искусств. Весь город удивлялся, потому что в то время задвинуть музей «отца народов» в такую глушь было, как сейчас говорят, круто. Думаю, это было продиктовано тем, что Сталин в те годы очень негативно относился к Азербайджану, и такое местоположение музея было, свое рода, проявлением немого протеста.
Баку для меня всегда был городом нефтяников, которые своим упорным, а порой и героическим трудом, добывали нефть. Все это оказывало огромное влияние не только на ритм Баку, но и на ритм бакинских пригородов – Туркян, Бузовнов, Нардарана, Забрата и Сабунчей. Все это создавало атмосферу не-праздности, праздность была на Торговой.
Когда в юности я работал контролером, то видел жизнь простых людей и в повседневности, и на каких-то собраниях. Судьба так сложилась, что мы были в самых низах и общались на своем уровне. Надо сказать, что общение с простыми людьми очень много дает, и я до сих пор сохраняю это чувство.
Для меня Баку, если сравнивать его с другими городами мира, является великим работягой. Мы не видим этот процесс, но я часто бываю в тех местах, где люди что-то производят, где люди заняты настоящим трудом, и поэтому всегда чувствую его ритм. Думаю, что в первую очередь оценку городу Баку и всему Азербайджану надо давать именно через труд людей.
из Галереи Бахрама Багирзаде на сайте 1news.az
Источник:
сайт 1news.az