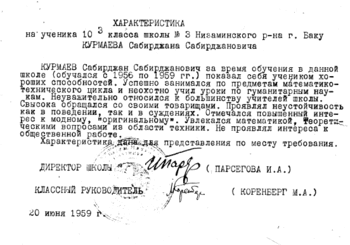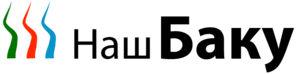Сабирджан Курмаев "По джазовым ступенькам"
Сабирджан Курмаев "По джазовым ступенькам"[править]
Когда Евгений Беркович обратился ко мне с просьбой дать сокращенную версию моих воспоминаний, мне было не совсем ясно как они впишутся в общий контекст сайта. Но я взялся за работу, сократил текст на треть, оставил, в основном только джазовую линию, разбил на главы, добавил послесловие. Что получилось, пусть судит читатель.
Начало
Я начал писать эти записки в году 1986, когда прочитал воспоминания Юрия Верменича “Каждый из нас”. Юрий Верменич был одной из ключевых фигур советского джазового движения. Его воспоминания в те времена были самиздатом и в них была документально зафиксирована советская жизнь как она есть в отличие от лакированных описаний того "как нужно". Я тоже чувствовал себя "каждым из нас". Это чувство приходит каждый раз, когда встречаешь старых и новых друзей на очередном джазовом фестивале.
Я смело принялся за работу, радуясь тому, что, составив срез состояния мышления своего поколения, я как бы сохраню на бумаге ментальность определенной группы людей со многими деталями. А то я всегда удивляюсь, когда узнаю, что мои молодые коллеги на работе не знают, кто такой Ив Монтан или же, что имя Лолиты Торрес им ничего не говорит, хотя ее саму и не вычеркнули из списков, а ее песенки порой еще звучат по радиосети.
Детство мое было воистину "джазовым". Рассматривая свои старые фотографии, я постоянно ловлю себя на мысли, что они вполне были бы уместны в контексте блюза, трущоб, бедности. Постепенно осознавая свое состояние, переводя его из терминов пионерской песни "о счастье, о весне в нашей солнечной стране" я понял, что действительность обратна тому "отражению жизни", которое в нас вдалбливалось, начиная с бесед в детсадах и через промежуточные пункты ученья в государственных заведениях до регулярной политинформации. Теперь, когда пропаганда успеха сменилась пропагандой поражения и разоблачений, такие откровения никого не удивляют.
Селение Маштаги (пригород Баку), пионерлагерь "Бактрамвай", 1951 год. Автор - первый слева в первом ряду, единственный в сандалиях, остальные пионеры босые.
В пятидесятые годы полностью оправдывалась ленинская мысль о том, что самым важным искусством является кино (цитатка с мыслью была обязательным элементом украшения фойе кинотеатров). Кино тогда выгодно контрастировало с казенной литературой и таким же казенным репертуаром театров и филармоний. На экраны попадали "трофейные" киноленты – чаще всего американские фильмы, захваченные в Германии, но была и английская, и французская продукция. Шли они на языке оригинала с наскоро сделанными субтитрами (назвать Капитолий Белым Домом было в порядке вещей), зачастую нанесенными поверх замазанных черным немецких надписей. Они вспоминались с чувством ностальгии позже, в период нивелированного дублирования, когда герои любого национального кино говорят одними и теми же голосами, смеются одинаковым деланным смехом и пользуются удивительно бедной лексикой подстать "новоречи" из "1984 года". Каждый новый фильм моментально налагал свой отпечаток на поведение людей: шутки, обороты речи, жесты, манера одеваться – все заимствовалось и украшало серую жизнь. Мальчишки с воем спрыгивали, схватившись за веревку, привязанную к ветви дерева, в подражание Тарзану. Веревки имитировали лианы, благодаря которым Тарзан переносился с места на место и совершал многочисленные подвиги.
Пронеслась по советским экранам "Серенада Солнечной долины". Сейчас это кинопроизведение не собрало бы большой аудитории. Поп-искусство стареет гораздо быстрее серьезных жанров. Молодые люди живут в своем поп-мире. Наш кинопрокат провел невольный эксперимент на сходную тему: показал "Вестсайдскую историю" спустя двадцать лет после выхода на экраны. Люди уходили из зала не досмотрев до конца один из самых кассовых фильмов своего времени. У тех, кто видел "Серенаду" в сороковые годы приятные воспоминания пришли бы в соприкосновение с новым опытом. Об этом хорошо написал покойный польский композитор и критик Матеуш Свентицкий. Первый раз, когда он еще находился в СССР в бывшем польском городе Львов, фильм показался ему откровением. Спустя десять лет он вновь увидел его. Свентицкому не хотелось снова вдаваться в примитивно скроенный сюжет, но закрыв глаза он с упоением слушал любимую музыку. Школьный учитель и джазовый критик из бывшей ГДР Херберт Флюгге рассказывал мне, что для него джаз начался именно с "Серенады". Когда закончилась Вторая мировая война, ему было двенадцать лет. Советские солдаты праздновали победу в его родной деревне салютом и показом этого фильма. Тогда Флюгге не понимал ни языка фильма, ни, тем более, субтитров на русском, но содержание он уловил и заразился джазом.
За неимением наставника я старался копировать образцы поведения, которые сам себе выбирал. Хотелось быть стилягой, но бедность не позволяла достичь хотя бы минимума: сшить себе зеленые брюки из недорого материала, а к ним рубашку навыпуск с рукавами в как можно более крупную клетку. Полный набор включал в себя гораздо более дорогие вещи: костюм из модного тогда сжатого трико в комплекте с шелковой полосатой сорочкой. Все-таки я уговорил мать сузить мне брюки и купить клетчатую рубашку. Этого было достаточно, чтобы услышать на улице неодобрительные замечания о "нынешней молодежи". Облик дополнял "кок" – высоко зачесанные волосы надо лбом. Для тех, кто знает о стилягах только понаслышке, нужно добавить, что характерный внешний вид необязательно обозначал желание показать свою материальную состоятельность (прошло немало времени пока сместились понятия, и при зрелом брежневизме "фирменные" джинсы стали признаком приближенности к социальной кормушке). Тогда яркий наряд был вызовом официозу. Как любая альтернатива рекомендованным образцам поведения движение стиляг активно искоренялось доступными властям способами: от приводов в милицию и разборов на собраниях до сатирических рисунков. Запомнился текст к карикатуре: стиляга обращается к продавцу магазина грампластинок: "Я Вас просил буги-вуги, а Вы дали фуги Баха!" Только невдомек борцу с чуждыми влияниями, что Бах вдохновлял музыкантов третьего течения, соединявших джаз с европейской классической музыкой. Матеуш Свентицкий в книге "Джаз – ритм ХХ века" сообщает, что на первый джазовый фестиваль в Польше, который проходил в августе 1956 года в Сопоте, съехалось множество "бикиняжей", и разъясняет, что "бикиняжами называли экстравагантно одетых молодых людей: узкие брюки, яркие носки в узорах, туфли на как можно более толстой подошве, пиджак свободный, галстук с девушкой в куцем купальном костюме, называемом "бикини", волосы средней длины, сзади ровно подстриженные под линейку, и обязательно мотоциклетная фуражка, набитая газетами". Все сходится в деталях, разве что фуражки у нас не были в ходу.
Джаз был обязательным молодежным атрибутом нонконформизма. Магнитофонов в пятидесятые годы не было, только-только начали появляться проигрыватели с синхронными двигателями (диск нужно было предварительно раскручивать пальцем, а тонарм давил на иглу массой не 1,5, а 150 граммов!). Проигрывали самодельные записи на рентгеновской пленке – "музыку на ребрах". Мой старший брат также отдал дань "ребрам", преимущественно коммерческому репертуару. У него были записи "Мамбо-рок" и "Мамбо италиано" и тому подобное. Главным проводником музыкальных идей было радио. Эфир тогда не был загажен глушением, и можно было наслаждаться музыкой. В Баку хорошо принимались "Радио Цейлон" и "Радио Пакистан", впоследствие к ним добавились передачи Уиллиса Коновера. Я неукоснительно слушал все, расписания передач знал назубок. В своих музыкальных пристрастиях я ориентировался на старшего брата, он был для меня непререкаемым авторитетом. И странно получилось, что для меня джаз постепенно стал основным содержанием жизни, а для него остался музыкальным фоном пятидесятых годов. При полном отсутствии критериев для неискушенных слушателей, какими мы были, за джаз сходили и популярные песни и особый вид музыки, родившийся в то время, – рок-н-ролл. Вместе с популярными песнями я невольно запоминал рекламу, звучавшую в коммерческих передачах. Я не понимал языка, но в ушах звучали простенькие мелодии, восхвалявшие тот или иной товар, и повторявшийся текст. Когда в наших магазинах вдруг появилась зубная паста "Kolynos Super White", я был тронут до глубины души. Вспомнился голос с "Радио Цейлон", выговаривавший по слогам: "Коо-лии-ноос!" И все же главное значение имела музыка. Я как-то стихийно выделял Бенни Гудмана, Гарри Джеймса, Банни Беригана, Томми Дорси и, с другой стороны, меньше восхищался оркестром Каунта Бейси. Наверное, равнодушие к черному джазу было связано с инерцией воспитания в окружении белой музыки. Радиостанции, поставлявшие мне музыку для слушания, также занимались не эстетическим воспитанием, а давали развлекательные программы. Поэтому познание Эллингтона и даже Армстронга пришло позже. Это была уже заслуга Коновера.
В последних классах школы я стал ходить по книжным магазинам. На волне тогдашней политики книгоиздательское дело вынесло кое-что любопытное, ранее недоступное. Мне удалось купить воспоминания генералов Риджуэя и Бредли. Тогда мысли американских вояк попадали на благодатную почву. Америка была символом заоблачных высот, приобщиться к которым было равносильно церковному причащению. В 1990 году мне попались в "Огоньке" откровения нашего поп-джаз музыканта Алексея Козлова. Человек более старшего поколения, чем я, а также располагавший большими, чем у меня, возможностями в Москве, он пронес эту инфантильную идеологию через всю свою жизнь. В интервью он с удовольствием рассказал, как он доставал подлинные американские костюмы, не такие нарочитые, как было принято у стиляг, а стандартную американскую одежду. И в тех широких брюках и пиджаках без подкладки он чувствовал себя "штатником" – представителем элиты.
В школе, 1958 г. Справа - школьные подруги Тамила Алиева (азербайджанка) и Нелли Саркисова (армянка) - открывшие для меня польские журналы.
В восьмом классе по совету школьной подруги я выписал польские журналы "Фильм" и "Экран" (подписка принималась без ограничений и стоила буквально копейки) и стал разбирать столь родственный русскому польский язык. Но чтение шло туго и даже польско-русский словарь не мог во всех случаях помочь.
В "Фильме" регулярно проводились викторины для читателей, а потом публиковались адреса победителей. Я стал писать письма по этим адресам, и так у меня появились корреспондентки в Братиславе и Лейпциге. Словачка Зора Ондрейчекова переписывалась со мной несколько лет и писала по-русски.
Переписка шла на культурные темы, и я многое узнал от нее об импрессионизме, экзистенциализме и других "измах". Она же прислала мне отдельные номера польских журналов "Radar" и "Jazz". В "Радаре" была постоянная рубрика "Pen Pal Club", где я тут же опубликовал свой адрес и получил кроме других письма от людей, связанных с нашей страной. Польский репатриант из СССР Мечислав Яцкевич писал мне, что родился в Польше, а потом никуда не переезжая оказался в Белоруссии, чуть позднее в Германии, а потом, наконец, в Литве (и все в одном местечке), откуда он счел за благо выехать обратно в Польшу, когда Хрущев предоставил такую возможность в 1956 году.
Киевлянка Ирина Шонзелер во время войны на принудительных работах в Германии познакомилась с голландцем и после войны вышла за него замуж и переехала в Голландию. Эти мои корреспонденты писали почти на таком же русском языке на каком мы говорили в Союзе, но круг их мыслей сильно отличался от привычного мне. Им обоим пришлось адаптироваться к новым условиям, причем Мечиславу в своей собственной стране, где, после атеистического воспитания в Союзе, он оказался в окружении католиков.
Позже я опубликовал свое объявление в польском "Джазе", и у меня началось многолетнее общение с Ромуальдом Веховским, которое длится по настоящее время, вот уже третий десяток лет. Человек старшего поколения (1919 года рождения) он ничуть не напоминает стереотипного поляка – делового малого, продающего и покупающего все подряд. Ромуальд в прошлом органист в костеле, а впоследствии ресторанный пианист, затем стал учителем игры на аккордеоне. Его интересы в музыке сосредоточены на инструментовке, инструментоведении, современной серьезной музыке. Он изучает партитуры Баха и Стравинского. Он глубоко религиозен, и в круг его интересов входит классическая восточная литература. Несколько старомодны вкусы и старомодны представления о чести и хорошем тоне. У него не было своих детей, и они с женой воспитывали двух девочек. В конце шестидесятых годов его жена умерла, и он остался один. Одиночество повлияло на него, он дал обет в течении года три часа молиться по вечерам. Год кончился, а он продолжал выполнять обет.
Моя жена была у него в гостях несколько дней, как-то и я его посетил проезжая транзитом в Чехословакию, спустя много лет я вновь попал к нему во время гастролей ансамбля "Дискомфорт", организованных при моем участии. Он был серьезно болен. Через полгода он сообщил мне, что у него рак. Мы продолжаем обмениваться книгами, хотя я со страхом ожидаю того момента, когда это все закончится. Я посылаю ему музыкальную литературу и ноты, выпускаемые тремя советскими музыкальными издательствами, а он мне – книги по интересующей меня тематике. Обмен проходит не на основе подсчета затраченных денег; мы просто покупаем нужные друг-другу книги и посылаем их. Получается, что он всегда тратит больше, поскольку мои интересы шире. Только раз мне удалось выйти за рамки нашего обмена, когда в разгар кризиса военного положения в Польше и выдаче товаров по карточкам я послал ему пару посылок с мылом, стиральными порошками, зубной пастой и т.п. Польские книги от Ромуальда были очень полезны для моего развития.
Польская бюрократия и с ней и цензура в социалистический период были сравнительно "мягкими", и там публиковалась литература, ставшая нам доступной только после сокращения функций Главлита. Свыше двадцати католических издательств,из них крупнейшее "Пакс", выпускают труды по теологии и философии, "Художественное и кино-издательство" печатает серию книг по современному искусству – не обзоры буржуазного упадка, а серьезные монографии. Я собрал библиотечку по психоанализу на польском языке. Мне нравилось показывать гостям труд Людвика Базылева "Российское общество первой половины XIX века" с видом храма Христа Спасителя в Москве и портретом Аракчеева. Книга Базылева вышла в Польше в 1973 году! В Варшаве на улице Новы Свят есть магазин "Британского и зарубежного библейского общества", где продают Библии на разных языках кроме русского. Но и русская Библия доступна в Польше. Ее можно купить в православном храме.
Опуская оригинальные труды по джазу, перечислю только переводы изданные в Польше: два разных издания (первое и одно из промежуточных) "Книги о джазе" Берендта, переведенных разными людьми, "Вариации на темы джаза" Одера, "Моя жизнь в Новом Орлеане" Армстронга, "Элементы джаза" Виеры (три его учебника, объединенные в одном издании: "Основы джазовой ритмики", "Основы джазовой гармонии", "Аранжировка и импровизация"). Для равновесия следует отметить, что технической литературы там издается несравненно меньше, чем у нас, и поляки широко пользуются советскими книгами по точным наукам и технике.
В 1959 году я закончил школьное образование и стал раздумывать о том, что делать далее. Толчком к сомнениям послужила характеристика, написанная моим классным руководителем Коренбергом. Моя мать сохранила ее среди бумаг, и вот этот документ передо мной:
Удивляет глубина лицемерия "руковода", выписавшего волчий билет мальчику, которому едва исполнилось семнадцать лет, за сумму вот каких прегрешений: поскольку у меня были хорошие отметки, то меня выдвинули в совет дружины. Я не был особенным хулиганом, но после каждого сорванного урока как "член актива" попадал на раскалывание к директору или завучу. На длительных собеседованиях мне предлагалось защитить честь школы тем, чтобы прямо и открыто сообщить кто именно вставил иголку в стул или, наоборот, вставил стул ножкой в дверную ручку. Вместо того, чтобы отмалчиваться, я считал себя вправе вступать в дискуссии о том, какова эта "честь". Так оказалось, что я с неуважением отношусь к воспитателям. Поскольку сам "руковод" вдалбливал нам историю, а я не заучивал даты съездов и любил задавать каверзные вопросы, то получилось и остальное, т.е. неустойчивость и нежелание к гуманитарному. Школьная характеристика была первой в ряду подобных документов, определявших повороты в моей жизни.
Солженицын включил в текст "Ракового корпуса" эссе об анкетах. Анкеты по Солженицыну были проработаны от простейшей до самой главной с перекрестными вопросами. Заполняющий главную анкету не мог отделаться недомолвками. Суперанкета вскрывала все. Кадровик из "Ракового корпуса" иногда заставлял заполнить такую анкету единственно с целью поставить человека на место. В книге Хедрика Смита "Русские" показана роль справок. Русский представляется Смиту человеком, устремленным вперед. Он спешит в казенный дом, а в руке у него зажат клочок бумаги – справка. В райкинском тексте это – "справка о том, что нужна справка о том, что нужна справка..." Характеристика тоже нашла своего исследователя. Александр Зиновьев в "Зияющих высотах" дал математически точный анализ, не поддающийся пересказу, а потому, цитата:
- "Надо различать фактическую и номинальную социальную значимость индивида. Фактическая включает в себя социальные признаки индивида, а номинальная – своеобразный способ выразить их для какого-то случая официального употребления индивида. Соотношение их можно проиллюстрировать на примере соотношения фактических признаков человека и характеристики, которую ему дают для поступления на работу, при выдвижении на награду, при оформлении документов на поездку за границу. Например, А – карьерист, хапуга, бабник, полуневежда, плагиатор и т.п.
- Все заинтересованные люди знают эту фактическую характеристику А. Номинальная его характеристика может иметь такой вид: морально устойчив, высококвалифицированный специалист, имеет учеников и т.п. Давая такую номинальную характеристику А, люди не лгут, а делают нечто иное. Они принятым в данной среде способом выражают лишь то, что А их устраивает, годится для такого-то дела. И ничего больше. Если в номинальной характеристике описать фактические качества А, то она будет воспринята не как объективная оценка его, а как свидетельство того, что А в чем-то провинился, его снимают с работы, считают, что он не годится и т.п. Вот когда действительно А в чем-то провинится и начинают говорить, что, мол, не знали его подлинного лица и проглядели, тогда лгут, ибо подлинное лицо социального индивида окружающие его лица, как правило, знают точно и исчерпывающим образом."
Промаявшись два летних месяца, я понял, что "предоставлять по месту требования" полученную характеристику не имеет смысла и что придется, как тогда говорили, "зарабатывать стаж", благо перед отбыванием воинской повинности у меня было в запасе еще два года. По тогдашним правилам два отработанные перед ВУЗом года давали преимущество при поступлении.
Дополнительными плюсами трудовой подготовки к получению высшего образования должны были стать новая характеристика с места работы и возможность поступить в комсомол. Мой "руковод" на классном собрании выпытал у меня почему я собрался вступить в славные ряды только в десятом классе. По его мнению пребывание в комсомоле было несовместимо со "шкурными" интересами (я признался, что при зачислении в студенты это был бы плюс), и моя попытка не удалась.
Я тыкнулся в пару мест, но никого не заинтересовал неквалифицированный школьник. Устроил меня отец в своем ведомстве на непопулярное место – сопровождающим почты (так называется человек, развозящий по почтовым отделениям посылки, газеты, мешки с письмами, бандеролями, деньгами – "почты" во множественном числе). С тех пор меня преследует стереотипное высказывание: стоит мне сказать, что я работал на почте, как почти каждый собеседник подаст реплику: "Когда я на почте служил ямщиком..." Для меня такое высказывание служит показателем интеллекта со знаком минус.