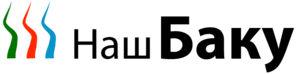Октай Зульфугаров «Изменился мой Баку, и еще больше изменились бакинцы"
Октай Зульфугаров «Изменился мой Баку, и еще больше изменились бакинцы"[править]
Галерея Бахрама Багирзаде.
В своей Галерее легендарный «парень из Баку», в прошлом звезда азербайджанского КВН, а ныне актер, художник и бизнесмен Бахрам Багирзаде продолжает знакомить читателей нашего сайта с историей нашего замечательного города.
Перед вами воспоминания о родном Баку и друзьях из прошлого известного композитора Октая Зульфугарова, которыми он поделился по просьбе Бахрама Багирзаде.
ГОРОД ДЕТСТВА
…У каждого он свой и, по большей части, единственный. И как бы потом не сложилась твоя жизнь, где бы ты ни бывал, город детства остается в твоей памяти самым любимым, самым желанным, и, кажется, ничего краше, ничего лучше и быть не может.
Я родился там же, где потом родились мои дети – в азизбековском роддоме, в котором моя мама работала акушеркой. А потом жизнь так сложилась, что меня стала воспитывать бабушка, женщина невероятно романтической судьбы. Сама она родом из Ирана. Ее отец – Муслим-бек, мужчина решительный и суровый, носивший черкеску и огромный кинжал, жил в городе Хой и владел четырнадцатью деревнями. Когда бабушке исполнилось шестнадцать лет, она влюбилась в садовника и, понимая, что отец никогда в жизни не согласится на этот союз, сбежала с ним через Араз.
Так что все мои тети и дяди родились уже в Азербайджане.
Баку тридцатых годов был городом необыкновенного тепла и дружелюбия. Помню, однажды бабушка поехала к моей тетушке в Черный город, а меня, шестилетнего мальчишку, оставила дома. Недолго думая, я отправился вслед за ней.
Мы тогда жили на 2-ой Параллельной, угол Полухина, и я совершенно самостоятельно проделал этот неблизкий путь на трамвае, причем, с пересадкой! Тогда мне это путешествие показалось бесконечным, но самое интересное – я абсолютно не испытывал ни страха, ни растерянности, потому что люди, которые попадались на моем пути, относились ко мне с такой добротой и любовью, что все мои переживания тут же улетучились.
Баку был городом, где все друг другу улыбались, а в трамваях общались шумно, весело, почти как близкие родственники. В те времена бакинский трамвай был больше, чем транспорт, – это был целый мир, где можно было встретить пожилую интеллигентную даму «из бывших» в старой шляпке и кружевных перчатках и вора-карманника, университетского профессора и какую-нибудь бабу-молоканку с огромными кошелками. Эта звонкая красная машина всех уравнивала, встряхивала и медленно катила по большому городу.
А с соседями вообще было принято жить одной большой семьей. Тогда еще можно было постучаться в соседскую дверь в любое время дня и ночи за солью или чаем, а когда собирались гости, то столы, стулья, тарелки и прочую посуду собирали по всем квартирам.
Мы жили одной большой коммуной – по утрам в туалет, который был один на весь двор, выстраивалась длинная очередь, а по вечерам любимым развлечением была игра в лото.
Я до сих пор помню эти маленькие, отполированные тысячью пальцев, деревянные бочонки с дорисованными от руки цифрами, желтоватые плотные карточки, холщовые мешочки с тесьмой наверху, в которых с тихим постукиванием смешивал эти самые бочонки тот, кто «кричал», и целую россыпь разноцветных пуговиц, которыми закрывали лотошные квадратики. Играли на копейки, а радости было на миллион!
Может быть, кто-то подумает, что я ворчу по-стариковски, но тогда действительно и трава была зеленее, и небо голубее, да и климат был совершенно другим.
На календаре 15 апреля, а на улице солнце, жара, пахнет морем и мазутом, и мы носимся уже в трусах и майках и мечтаем лишь об одном – скорее бы на бульвар, купаться!
Тогда в центре бульвара были устроены большие купальни – в море уходил широкий мостик из толстых досок, в конце которого стояло красивое деревянное здание с раздевалками и кабинками для серных ванн.
Естественно, что существовали женское и мужское отделения, а между ними был выход в море, и стрелки на табличках так и указывали – «Мужчины», «Женщины» и «Без пола», то есть из этого отделения ты сразу же попадал в море. Вода в бухте была настолько чистой и прозрачной, что мы видели, как плавают рыбки.
Наконец-то я иду в школу! Один, без сопровождения – не принято тогда было провожать в первый класс с букетами цветов и торжественными лицами. Я шел самостоятельно, почти взрослый человек.
Сбоку – матерчатая сумка с учебниками, тетрадками и чернильницей-непроливайкой, на ногах – новые сандалии, а в душе ощущение какого-то бесконечного праздника.
Когда началась война, я стал кочевать по разным школам из-за того, что в них устраивали госпитали. И эта чехарда происходила так часто, что я даже не заметил, как нас разделили с девчонками! Но мы, нормальные пацаны, особенно из-за этого не переживали – в наших дворах этого «добра» было навалом, и общение с девочками стало доставлять, наверное, даже большее удовольствие.
В один прекрасный день меня, школьного художника и редактора стенгазеты, вызывает к себе директор 18-й школы и говорит: «К нам должна прийти комиссия с депутатом Верховного Совета Чимназ Аслановой. Садись за мой стол и быстренько нарисуй стенгазету». Усадил меня в своем кабинете, а сам побежал проверять школу. И вот сижу я себе за директорским столом, рисую, и вдруг открывается дверь, входит очень представительная женщина и говорит таким густым, басистым голосом: «Здравствуй, мальчик. А что ты тут делаешь?» «Как что? Рисую», – ответил я смело.
«Что же это такое? Твои одноклассники там учатся, а ты здесь прогуливаешь уроки?» Ух, как потом попало нашему директору!
Дисциплина тогда была железная – попробуй только без уважительной причины пропустить занятия! Вызов родителей к директору было еще не самым страшным наказанием. Тогда могли запросто исключить из пионеров, а то и вообще из школы.
Правда, несмотря на это, мы все равно умудрялись бегать на «шаталы». Через вахтершу пройти было нереально, мы спускались всем классом по водосточной трубе и убегали в кино. Раз по двадцать мы смотрели «Тимура и его команду», «Чапаева», причем не сидели, как прибитые, на месте, а кричали, размахивали руками и пытались хоть как-то спасти наших любимых героев от «злых буржуинов».
Нашим самым любимым местом для игры в казаки-разбойники был пустырь возле Сальянских казарм, где в те времена ничего, кроме здания пожарки, еще не было. Во дворе у меня был кличка Октай-безвредный, потому что я не принимал участия в блатных шалостях и не воровал, но зато у меня был огромный авторитет среди местной шпаны – я делал наколки Сталина, Ленина, пронзенных стрелою сердец и всего остального, что только пожелает «клиент».
И, конечно же, мы часто совершали «походы» на знаменитую толкучку Кубинку, где можно было встретить самую разную публику. Голод заставлял даже профессоров торговать там своими вещами, а мальчишки и вовсе тащили все, что плохо лежит, и потом реализовывали это на «черном рынке». Но я этим никогда не занимался.
Бабушка, правда, иногда посылала обменять наши старинные николаевские тарелки на лепешку хлеба, и я тут же, около входа, сдавал их перекупщикам, и, прижимая к груди ароматную буханку, бежал домой. Стоять и торговать – это было не по мне.
Однажды мой друг говорит: «Октай, айда на Кубинку. Я куплю тебе лепешек». А там как раз стояли девчата, обвешанные женскими лифчиками и трусами. Мой товарищ немного возле них покрутился и вернулся с деньгами. Когда я понял, что он их попросту стащил, то серьезно с ним разругался и пару месяцев вообще не разговаривал. Но самое интересное, что его покойный отец был Героем Социалистического труда.
Тогда такое случалось сплошь и рядом, но мне посчастливилось не завязнуть в этой среде, даже несмотря на то, что бабушка абсолютно не контролировала меня, и я с самого раннего детства был чересчур уж самостоятельным.
А уж как мы любили прыгать с парашютной вышки, словами не передать! Тогда это было принято, или, как сейчас говорят, модно, чтобы мальчишка рос спортивным, смелым, чтоб умел драться, и не был похож на девчонку. Но не все же были столь отважными, чтобы вот так вот сразу, без подготовки, шагнуть в пропасть.
Для привлечения парней с вышки прыгали специально подобранные девчата – плотные, крепкие, статные, кровь с молоком. И мы, шестнадцатилетние пацаны, слетались на эту аппетитную приманку, как пчелы на мед, и прыгали, прыгали, прыгали…
Когда сейчас я об этом вспоминаю, то не перестаю удивляться – как же мы все это успевали – учиться, бегать в кино, влюбляться в девчонок, пропадать до поздней ночи во дворе, мотаться по всему городу? А ведь еще надо было получить черный хлеб по карточкам, для этого я занимал в десять часов вечера очередь на Шемахинке, где была наша хлебная лавка, и выстаивал там до одиннадцати утра следующего дня.
Я обожал субботы и воскресенья, потому что в школе нам выдавали две белые булки с суфле или крохотным кусочком шоколада, а иногда нам доставалась американская гуманитарная помощь в виде консервированных килек.
Какое же это было наслаждение после черного тяжелого хлеба откусить кусок мягкой белой булки, чуть лизнуть шоколадку и долго-долго держать эту вкуснятину во рту.
И все равно мы были счастливы!
Город пульсировал, город жил, город улыбался и был ласковым, несмотря на войну и голод, несмотря на окопы, вырытые вокруг парка 26 бакинских комиссаров, и гибнувших на фронтах мужьях и сыновьях – каждая улочка, каждый уголок Баку был озарен смехом и горящими от надежды глазами. Весь Баку жил самой искренней верой в светлое будущее.
Хорошо помню тот день, когда закончилась война.
Тихое и сонное весеннее утро вдруг буквально разорвал чей-то неистовый ор: «Война кончилась!» За одну секунду наша 2-ая Параллельная наполнилась людьми – все в один голос кричали от радости, целовались, обнимались, плакали и никак не могли поверить, что тяжелые годы и бесконечные похоронки остались позади.
И прямо под огромным развесистым деревом, которое в Баку почему-то называют вонючкой и которое до сих пор растет на той самой улице, мгновенно стал выстраиваться длинный ряд разнокалиберных столов. Все тащили, у кого, что было из еды, и начался настоящий праздник.
В тот день Баку не спал до поздней ночи, и над городом стоял радостный гул: «Победа!»
В 1949 году я подхватил малярию, которую в Баку привезли беженцы после ашхабадского землетрясения, причем заболел настолько сильно, что меня положили в больницу, где главврачом был Эмин Эфендиев. Мне даже посчастливилось присутствовать на одной из его лекций – он меня так вдохновил, что я начал было подумывать о том, чтобы продолжить семейную династию и стать врачом.
Но мама своим рассказом о Большом театре и мечтами о том, чтобы я стал музыкантом, разрушила все мои планы. Оказывается, когда мне было четыре года, мы поехали в Москву, и мама повела меня на оперный спектакль в Большой театр, где мой дядя тогда работал художником.
Я был очаровательным толстеньким карапузом, и когда началась увертюра, вскарабкался на кресло и начал размахивать руками как дирижер. Зрители, сидевшие рядом, сказали моей маме, что я обязательно стану музыкантом.
Эту историю мама рассказала, когда мне исполнилось шестнадцать лет, и я тут же отправился осуществлять ее мечту в 1-ую музыкальную школу, где директором была Фатьма Зейналова.
Увидев мою высокую долговязую фигуру, она сказала: «Ну-у-у, сынок, тебе уже поздновато поступать. Ну, ладно, приходи, что-нибудь придумаем». Единственным педагогом из многочисленной приемной комиссии, кто изъявил желание принять в свой класс такого переростка, оказался виолончелист Яков Давыдович Мюллер.
Через пару месяцев я достиг таких успехов, что не только стал его помощником, но и начал зарабатывать репетиторством. Когда я заходил в школу, родители здоровались со мной, как с молодым педагогом, а когда выходил на улицу, мои одноклассники дразнили меня «Эй, ты, полтора шалбана» или «Амбал Дадаш».
Спустя два с половиной года я уже поступил в музыкальное училище к Шварцу – близкому другу Леопольда Ростроповича, который, кстати, играл на виолончели в бакинских ресторанах.
А с Мстиславом Ростроповичем я познакомился в 1949 году. Ему тогда было девятнадцать лет, и он приехал в Баку, чтобы навестить друзей. Слава просто обожал бакинский хаш и ел его, как полагается – с водочкой, чесноком и соленьями, и, причмокивая, повторял: «Мы – хашисты!».
Но моя тогдашняя жизнь состояла не только из учебы – я был молодой, довольно симпатичный парень с огромной шапкой волос, из которых мои однокурсницы заплетали аж сорок узбекских косичек, и моим любимым местом в городе была Торговая, по которой прогуливалась вся бакинская интеллигенция.
Русская драма, Оперный театр, Кривая, Хагани, Телефонная, Парапет, Коммунистическая, которую тогда еще называли Николаевской, – это были обычные маршруты наших прогулок.
Публика попроще кучковалась на Парапете, который считался не очень приличным местом, – туда обычно приходили солдаты в поисках «доступной любви» и разбитные бабенки, за что этот сквер прозвали «Парапет – пара пять».
А вот интеллигентная молодежь назначала свидания в сквере имени 26 бакинских комиссаров, а в Нагорном парке была такая густая растительность, что можно было даже целоваться. Именно в парке 26-ти я перед свадьбой назначил сразу четыре свидания на четырех разных углах, правда с интервалом в пятнадцать минут, и сообщил четырем своим подругам, что женюсь. Ах, какие были слезы и обиды, но я никогда им и не обещал вечной любви, которая пришла ко мне только в образе моей будущей жены.
В ЗАГС мы пошли вдвоем, без всяких свидетелей. Причем, на мне был огромный чужой плащ, в котором я выглядел, как чучело. А на собственную свадьбу вообще опоздал на два с половиной часа, потому что бегал со своим другом по магазинам и искал костюм – я же бывший стиляга, и не мог одеться во что попало.
Бакинцы обожали ходить в кино и театры. Это был целый ритуал – собирались семьями, порой всем двором, и шли на премьеру. Напротив Парапета находился кинотеатр «Спартак», но бакинская элита предпочитала ходить в «Низами» или «Ветен», где в то время перед сеансами выступал потрясающий оркестр Рауфа Гаджиева.
Насмотревшись трофейных фильмов, красивой и такой недоступной заграничной жизни, мы с друзьями стали стилягами – набриолиненые волосы, шляпы, брюки-дудочки, яркие галстуки, остроносые туфли, легкая, непринужденная манера общения.
Причем, все это приобреталось у фарцовщиков и за довольно большие по тем временам деньги.
Когда мы, первые бакинские стиляги 50-х, в таком экстравагантном виде появлялись на Торговой, то вызывали целую бурю эмоций у фланировавшей публики – от восхищения в девичьих глазах до презрительных насмешек их ревнивых парней. Но на это и было рассчитано – мы всегда оказывались в центре внимания!
Пронеслась, пролетела моя жизнь. Изменился мой Баку, и еще больше изменились мои бакинцы. Иных уж нет, а те далече…
Те, кто покинул свой город, навсегда унесли с собой его образ, аналога которому невозможно найти ни в какой другой стране мира, потому что его просто не существует.
Те, кто остался, со временем стали в глазах молодежи чем-то вроде «состарившихся подростков», замкнувшихся в своем далеком прошлом.
К счастью, я не принадлежу ни к одним, ни к другим. Я просто живу в этом городе и так же, как и во времена моей бесшабашной молодости, продолжаю его любить. И сердце мое переполняется счастьем оттого, что мне довелось видеть Узеира Гаджибекова, дышать одним воздухом и учиться у Кара Караева, и дружить со всеми теми, кто своей жизнью и творчеством создал прекрасную эпоху бакинского Ренессанса 60-х.
Октай Зульфугаров,
композитор
Источник:
сайт-газета 1news.az