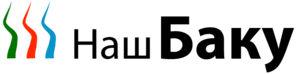Маяковский и Баку
В. Маяковский
Рождённые столицы[править]
Тот, кто никогда не был в так называемой «провинции», плохо сейчас себе эту провинцию представляет.
Тот, кто был в этой провинции до революции, — не представляет её совсем.
Прежде всего, самое название «провинция» дико устарело. Архаический язык склонен ещё называть провинцией даже такие города, как Минск, Казань, Симферополь, а эти города, волей революции ставшие столицами, растут, строятся, а главное, дышат самостоятельной культурой своей освобождённой страны.
Наши дни — начало культурной революции — постоянно отмечают рост интересов рабочей массы к литературе.
Мне, по моей разъездной специальности чтеца стихов и лектора литературы, нагляднее и виднее этот рост.
За последние два месяца я выступал около 40 раз по разным городам Союза.
Первое впечатление — аудитория круто изменилась. Раньше редкий город мог бы выдержать более, чем один литературный вечер. И аудитория — прежде густые, потом битые сливки города. Расходились задолго до окончания, чтобы не обменяли их ботики и шубы. Расстанешься после вечера и больше никогда и никого не видишь, разве что у зубного врача на приёме.
Сейчас любой платный вечер, рассчитанный на парурублёвые билеты, неизменно горит. Тем не менее барьеры поломаны и стёкла выбиты — это идут по два, по три на каждый входной и галёрочный билет. Неизменная фраза перед началом каждого чтения: «Прошу товарищей галёрочников слезть в партер!»
Настоящая аудитория и настоящее чтение начинается только на другой день.
Так, в Баку, после вечера в бывшем особняке бывшего миллионера, теперь Дворце тюркской культуры, звонки — «отношения».
— Товарищ Маяковский, ждём тебя в доках!
— Товарищ Маяковский, красноармейцы и комсостав такой-то и такой-то дивизии ждут тебя в Доме Красной Армии!
— Студенты не могут думать, что ты уедешь, не побывав у них… — и т. д., и т. д.
Зато и слушатель встречается по-другому.
Грузчик в Одессе, свалив на пароход чьи-то чемоданы, здоровается со мной без всякого обмена фамилиями и, вместо: «Как поживаете?» — валит: «Скажи Госиздату, чтобы Ленина твоего дешевле издал».
Красноармеец из уличного патруля (3 года назад в Тифлисе) сам удостоверяет мою поэтическую личность.
За один день читал (за один, но не один) от гудка до гудка, в обеденный перерыв, прямо с токарного станка, на заводе Шмидта; от пяти до семи — красноармейцам и матросам в только что строенном, прекрасном, но холодном, нетопленном Доме Красной Армии; от девяти до часу — в университете, — это Баку. Ещё бы, он столичнится на моих глазах.
Я помню дореволюционный Баку. Узкая дворцовая прибрежная полоса, за ней грязь Чёрного и Белого города, за ней — тройная грязь промыслов, с архаической фонтанной и желоночной добычей нефти. Где жили эти добыватели — аллах ведает, а если и жили где, то не долго.
Пыльно, безлисто.
Культура — «интернациональная».
Язык — среднерусский: «беру манташевские, даю манташевские!»
Запросы простые — заплатить копейку, вышибить рупь.
А тюркский язык — к чему он? Манташев и без него в Париже обойдётся, а манташевский рабочий читать всё равно не умеет.
Я видел Баку 24-го года.
Свобода наций бурно выплеснулась на каждый дом тюркским алфавитом вывесок.
С неба непрерывный дождь, с боков непролазная грязь (она течёт с боков горок, делая улицы непроходимыми). С моря — непродуваемый, непродыхаемый норд-ост.
Каждый день моего недельного визита, пробираясь с кем-нибудь из бакинцев, я слушал бесконечные планы, проекты.
Азцик. Тов. Агамали-Оглы говорит: «Тюркский алфавит — уже препятствие нашей культуре, мы переведём его на европейский, латинский».
Азнефть. Тов. Киферис говорит: «Желонки, фонтаны уже препятствие для нефтепромышленности. Мы переведём её, выравняем на Америку, на групповой привод».
Азпролеты. Поэт говорит: экзотика, чадры, «синь тюркская» и прочие восточные сладости, вывозимые отсюда Есениным, — уже препятствие для нашей культуры, — мы должны ориентировать её на рабочего, на индустрию.
После годовщины десятилетия я снова объехал Баку.
Часов в 6 утра протираю глаза. И от утра, и от необычайности зрелища. Навстречу прогромыхал электропоезд. Огромнейшие, чистейшие вагоны поднимали к проводам пары стальных иксов. На таких иксах вели поезда электровозы по тоннелям под Нью-Йорком. В двадцать четвёртом я трясся здесь в чём-то теплушечном, обдаваемый копотью. Тогда дорога шла через песок и пустырь, сейчас — через европейские коттеджи, в садиках и цветниках.
Въезжаю в Баку.
В первый раз в жизни читаю тюркские слова вывесок латинским шрифтом.
Этот шрифт — культурнейшая революция, — это сближение пониманием начертания — четверти человечества.
Хожу. На пригорке сад. Лестница белого камня. Было кладбище. Велели родственников перенести. Теперь разрастается парк и сад, а лестница из невзятых памятников.
Вечером читаю в Доме тюркской культуры. До начала меня ведут в просторный зал читальни. Тов. Юрин, талантливый поэт из Бакинской ассоциации пролетписателей, знакомит с тюркскими, уже большими и знаменитыми (4 года!) писателями.
На столе развёрнуты журналы — толстый лит-политический — полутюркский, полулатинский алфавит. Тоньше — пионерский.
Это уже не сколок с московской культуры. Разница не количественная, а качественная. Это столичная культура — экономического, политического и культурного центра Азербайджана.
Сходства культуры — это не насилие сотни миллионов над десятком, — это общность идей одного трудового человечества, на разных языках строящего одну коммунистическую культуру.
На другой день я сорок минут мчал трамваем через новенький город в клуб Шаумяна — рабочие-подростки слушали стихи, не шелохнувшись, а потом — засыпали снегом записок.
— Что такое рифма?
— Как выучиться стать поэтом?.. и т. д.
Через три часа заторопились, но и торопливость особенная.
— Кончай, товарищ, а то завтра в 7 утра трубы таскать, а уходить не хочется.
Я взялся писать и о Минске, и о Харькове, и о Краснодаре, и о Казани, но не могу оторваться на коротком расстоянии фельетона и от одного Баку.
Поэты и писатели, где живая хроника городов и людей?
Жизнь интереснее и сложнее поэтических и беллетристических книг о ней.
Я видел, как хохотали рабочие Баку над Яковом Шведовым, повертевшимся по Баку в качестве мэтра и потом тиснувшего в Москве стих (проснитесь, тов. редактор! У вас есть Б. С. Э.?) о том, как баржи наливаются нефтью прямо в Баку и прямо прут на Босфор, и даже без крохотной пересадки. А в хвост к этому стиху пристегнул от стиха бакинского поэта Юрина и без всяких кавычек.
Это пишет «знаменитый», бывший в Баку, а что пишут не знаменитые и не бывшие?
Провинция слопает! — так, что ли?
Фактов я ещё наприведу в других очерках, но выводы и сейчас ясны.
Провинций много и сейчас, но они не то и не там, где были раньше. Провинция — думать, что для стихов подойдёт и Каспийское море, впадающее в Чёрное.
Провинция — думать, что стихи величественнее газетной заметки, хотя их, как видите, можно высасывать из пальца (даже из чужого!), и никто за это из поэтов не выгоняет.
По Советской республике накопились новые факты, и ловить их в записную книжку интереснее, чем размусоливать потрёпанный любовный фактик в целый роман или рассказ. Интереснее и читателю, и писателю. Если писатель продолжит по-старому, то его перерастёт и массовый читатель, как уже перерос многие категории культработников.
Союз Советских Республик — это не политическая формула. Это жизнь тела территорий и наций со светлыми и особенными головами столиц.
1928
“Лучше всего - Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи - нефть, а дальше степь. Пустыня даже”
(автобиография “Я сам”)
“Люблю я Баку. В нем есть что-то особенное, никогда не забывающееся”
17 февраля 1926 года В.В. Маяковский приехал в Баку. Он только три месяца тому назад вернулся из большой поездки по Америке и Европе и теперь ездил по Советскому Союзу, рассказывал о своем путешествии и читал новые стихи. В Баку Владимир Владимирович пробыл неделю. За эти дни он не только выступал, но осматривал город, ездил на строительство новых нефтяных промыслов. Об этом писал в очерке “Америка в Баку”. Выступал в помещении Тюркского государственного театра и Бакинского рабочего театра, в кино “Рекорд”, бывал в редакции газеты “Бакинский рабочий”, встречался с участниками литературной группы “Весна”. Я был едва ли не на всех этих выступлениях и встречах, и каждый раз слышал что-то новое, часто совершенно неожиданное.
Обычно Маяковский появлялся задолго до выступления, ходил по фойе, присматривался к публике, заговаривал с молодежью, расспрашивал о любимых поэтах, выяснял отношение к себе, к своей поэзии. Охотно подписывал свои книги, но часто потешался над теми, кто просил что-нибудь надписать на память просто на листе бумаги. Иногда вместо автографа оставлял беглый, очень выразительный рисунок, всего из нескольких штрихов.
Первое выступление состоялось днем 19 февраля, в так называемом Маиловском оперном театре. Зал был переполнен. Это были первые теплые дни, на улицах продавали мимозы и у многих в руках были эти цветы. Доклад Маяковского назывался “Мое открытие Америки”. Он рассказывал то, что позднее вошло в его очерки, известные под этим названием, но кое-что в печатном виде отсутствовало. Он не читал, а рассказывал, как бы непринужденно импровизируя текст. Потом читал стихи. Пожалуй, интереснее всего были ответы на записки - молниеносные, остроумные, задорные. В это время Маяковский уже думал о создании книги “Универсальны ответ” - “записочникам”. Он сохранял поступавшие к нему записки (по его подсчету, их накопилось около 20 000), но так был занят, что книгу написать не успел.
Не все слушавшие Маяковского были настроены доброжелательно. Скептики и просто предубежденно относившиеся к советской литературе злобствовали, посылали анонимные записки. Были “типовые вопросы”, и Маяковскому почти всегда удавалось в разных аудиториях отвечать по-разному. Некоторые вопросы его раздражали, сердили. Такого раньше я в нем не замечал. Так, он иногда терял самообладание, когда его спрашивали, как он относится к Пушкину, или более определенно: “Почему вы не любите (или не признаете) Пушкина?” На этот вопрос Владимир Владимирович отвечал: “Я уверен, что отношусь к Пушкину лучше, чем автор этой нелепой записки”. Или спрашивал: “А кто вам сказал, что я не люблю поэзии Пушкина?” Иногда из зала кричали: “Вы же сами не раз отрицали значение Пушкина!” Маяковский терпеливо разъяснял, что Пушкин и пушкинисты не одно и то же, да и пушкинисты бывают разные. Однажды он пригласил автора записки о Пушкине выйти на эстраду и начать читать вслух на память стихи и поэмы Пушкина. Кто кого перечитает. “Вот тогда мы увидим, кто лучше знает и больше любит Пушкина”. Но никто никогда не отваживался вступить с Маяковским в такое соревнование. “Евгения Онегина”, “Полтаву”, “Медного всадника”, многие поэмы и стихотворения Пушкина Владимир Владимирович знал наизусть и часто читал большие отрывки вслух. И читал он не хуже Яхонтова и Шварца, лучших чтецов того времени.
Однажды утром я встретил Владимира Владимировича в книжном магазине “Бакинский рабочий”. Он досадовал, что в магазине не оказалось его книг и что очень мало книг советских поэтов. Попросил позвать директора магазина. Потом обратил внимание на то, что почти нет книг по истории и географии Азербайджана, путеводителей по Баку, книг о революционном прошлом города.
Меня всегда удивляла и восхищала живая заинтересованность Маяковского в самых различных областях культуры, цепкость его памяти, его наблюдательность. Рассказывая о своих поездках по странам Европы и Америки, он не только знакомил с десятками интереснейших поэтов, художников, актеров, энтузиастов своего дела, но и входил в мельчайшие вопросы книгоиздательского и книготоргового дела, в вопросы техники театра и кино, организации выставок, праздничных зрелищ, в споры о планировке современных города, в проблемы транспорта и влияния скоростей будущего на психику человека.
В Баку помнили и любили Есенина, особенно студенческая молодежь. Маяковский всегда читал “Сергею Есенину”, и ему удавалось убедить аудиторию в справедливости, в правильности своего отношения к смерти поэта.
Впрочем, уже в 1926 году иногда чувствовалась безмерная усталость Владимира Владимировича. Он сам признавался, что не умеет отдыхать. Во время выступления перед отъездом в Тифлис (это было в Бакинском рабочем театре) он томился, не скрывая своего раздражения и недовольства слушателями, хотя видимых причин как будто бы и не было.
(отрывок из кн. В.А. Мануйлова «ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАЯКОВСКОМ»)
В. Маяковский
АМЕРИКА В БАКУ[править]
Баку я видел три раза.
Первый — восемнадцать лет назад. Издали.
За Тифлисом начались странные вещи: песок — сначала простой, потом пустынный, без всякой земли, и
наконец — жирный, черный. За пустыней — море, белой солью вылизывающее берег. По каемке берега бурые, на ходу вырывающие безлистый куст верблюды. Ночью начались дикие строения — будто вынуты черные колодезные дыры и наскоро обиты доской. Строения обложили весь горизонт, выбегали навстречу, взбирались на горы, отходили вглубь и толпились тысячами. Когда подъехали ближе, у вышек выросли огромные черные космы, ветер за эти космы выдрал из колодцев огонь, от огня шарахнулись тени и стали качать фантастический вышечный город. Горело в трех местах. Даже на час загнув от Баку к Дербенту, видели зарево.
Промысла горели всегда.
Второй раз я видел Баку в 13-м.
Несколько часов — от лекции до поезда. Меня повели смотреть город; Каспийское море, сажают бульвар,
театр Маилова, Девичья башня, парапет.
— Нельзя ли на промысла? — заикнулся я.
— Бросьте! — отвечали мне. — Чего же там смотреть!
Черный, грязный город. Промысла тоже — грязь да нефть. Вот разве что ночью — когда фонтаны горят…
Сейчас первый же встречный спросил:
— Вы видали промысла?
Второй:
— Вы уже были в черном городе?
— Как вам нравится Разинский поселок?
— Вот побывайте на заводе Шмидта…
— Посмотрите ленинские…
И т. д., и т. д.
Весь интерес города вертится вокруг промыслов.
Не только интерес добычи и прибыли, а весь интерес внимания, культуры, подъема.
Черный город.
Сейчас уже название «Черный» стареет.
Сносятся мелкие отсталые заводики раньше конкурировавших фирм, и вся строительная энергия бросается
на расширение, укрепление больших, по последнему слову оборудованных заводов вроде бывшего Нобеля. Железный и стальной лом свозится на фабрику Шмидта, и снова пойдут в работу раньше негодные миллионы пудов.
Вместо отечественных лачуг с паршивым «дымом отечества» выводятся и растут рабочие поселки, с домами в террасах, с электричеством, на газе. В Разинском, в Романинском и Балаханском поселках уже исчезли чернота и дым.
И Черный и белеющий город, — конечно, не случайность и не благотворительность. Это — отражение, это —
продолжение способов добычи нефти.
В изумлении хожу по промыслам.
Вот старая желонная вышка. Прабабка грязи и копоти черного поселка.
К ней не то что не подойти в галошах, к ней в лодке не подплывешь.
Высоченная обитая дверка для подъема и спуска желонки (желонка — длинная труба-ведро и на 6 и на 8
пудов нефти). Чтоб выволочь ее из скважины, тарахтит машина вроде пароходной лебедки, и 4—8 человек возятся вокруг всей этой ахинеи, опускают желонку, потом человек на верхушке смотрит, чтоб ее вздернули на нужную высоту; двое, раскачивая, подводят ее на нефтяной бак, и она выплевывает густую грязную жидкость и в бак, и в лицо, и на одежду, и в окрестности. С перерывами течет по открытым желобам в ожидании окурка незащищенная нефть.
Разве раньше можно было привести этот мрак в порядок?
200 хозяев и хозяйчиков конкурировали, дрались и расхищали нефть на этом маленьком клочке земли.
Расхищали, потому что рвачески выбиралась нефть, заливались водой из экономии неукрепленные скважины.
Высшее счастье — фонтан. Полмиллиона пудов нефти выкинет он в день — это 200—300 золотых тысяч
Манташевым, Тамамшевым, Нобелям. И если у одного забил фонтан, сосед лихорадочно начинает рыть рядом,
тут не до американизации добычи, тут не до укрепления. Фонтан надрывался, дав полмиллиона пудов в день и
иссякнув, тогда как в правильные месяцы он дал бы миллионы пудов. Экономия? Экономия? Экономия на удобствах, на рабочих жилищах.
Снимайте галоши, выпустите кончики белого платочка и в кремовых (если хотите) брюках шагайте на сегодняшние промысла.
Низенькое игрушечное здание — просто комната с красной крышей. На высоте аршина от земли щель, из
щели длинные железные тонкие лапы, дергающие рычаг глубокого насоса, без остановок выкачивающие нефть
в глухие трубы, из труб — в крытый бак. А под крышей мотор сил в 60 (а раньше 90 сил на одно тартание) вертит групповой прибор, сосущий сразу нефть из двадцати скважин. По вылизанному полу ходит всего один человек, да и тот может выйти без ущерба хоть на два часа.
До революции попробовали глубокие насосы и бросили — слишком долгий способ. Сразу разбогатеть веселее.
Осталось 10—12 насосов.
А групповых, «коллективных» приборов — ни одного.
Куда ж заводчикам сообща, — передерутся. А сейчас 40 групповых приборов, да еще и приборы-то сами на нашем заводе на 50% сделаны, а первые шли из Америки.
Глубоких насосов 1200, и гордостью стоит тысячная «вышка» на промысле Кирова, оборудованная в честь
XV бакинской партконференции. Это из общего количества 2350 работающих вышек. Еще полторы тысячи скважин ждут своей очереди.
Ненужный дорогой лес вышек снимают, везут на другие стройки.
Делалось не сразу.
Ощупью, понаслышке конструировали машины, стоящие по Америке. А когда дорвались до американских, увидели, что наврали мало, а кой в чем и превзошли свои стальные идеалы.
(1926)
В. Маяковский
Баку[править]
Баку.
Город ветра.
Песок плюет в глаза.
Баку.
Город пожаров.
Полыхание Балахан.
Баку.
Листья - копоть.
Ветки - провода.
Баку.
Ручьи -
чернила нефти.
Баку.
Плосковерхие дома.
Горбоносые люди.
Баку.
Никто не селится для веселья.
Баку.
Жирное пятно в пиджаке мира."
Баку.
Резервуар грязи,
но к тебе
я тянусь
любовью
более -
чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка - правоверного,
Иерусалим -
христиан
на богомолье.
По тебе
машинами вздыхают
миллиарды
поршней и колес.
Поцелуют
и опять
целуют, не стихая,
маслом,
нефтью,
тихо
и взасос.
Воле города
противостать не смея,
цепью сцепеневших тел
льнут
к Баку
покорно
даже змеи
извивающихся цистерн.
Если в будущее
крепко верится -
это оттого,
что до краев
изливается
столицам в сердце
черная
бакинская
густая кровь.
(1923)