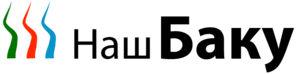Корин Григорий Александрович – поэт
Корин Григорий Александрович – поэт[править]
1926 - 2010
Автобиография:
[править]
Мой отец - Коренберг Шабе Перцевич (1900-1974 гг.) и мать Хабинская Михле Яковлевна (1896-1969 гг.) были совсем простыми неграмотными людьми. Но глубокая вера, которая осмысляла каждый их поступок, каждое их слово - первое и основное мое впечатление о жизни. Жили мы в г. Радомышле на Украине. Нас было трое сыновей - старший Петр (1922-1942 гг.), затем - Михаил (1923-1996 гг.) и, наконец, я -1926 г. рождения.
Больше всех своих родных я любил деда. Он был лесником. Со мной он много гулял в лесу, учил меня любить деревья, понимать природу. От рук его шли тепло и свет. А дома у него была молельня. Приходили пожилые люди и молились хором. Эту стиховую ритмику я повторял про себя. С шести лет, где бы я ни был, что бы я ни делал, молитвенные фразы звучали во мне. Это был первый выход к собственным стихам - я рифмовал! После молитвы, сидя вдоль длинного стола, пили чай, и я разносил кусочки колотого сахара. Таких людей я увидел потом на картинах Шагала.
В городе моего детства - в Радомышле - была река и рынок со множеством людей, зверей, птиц и с моими любимыми лошадками и жеребятами. Но из Радомышля пришлось срочно бежать. Мои родители торговали на рынке. Их, и таких же других, полунищих, стали преследовать. Многие уже сидели в тюрьме. Искали золото -огород перекопали, квартиру подвергли обыску (разумеется ничего не нашли) - родители решили ехать срочно в Баку, там жили родственники моей мамы. Во время обыска скончалась моя бабушка. Ночью шли поспешные сборы, а рано утром на двух телегах мы выехали и по дороге похоронили бабушку. Я, еще маленький, уже понимал, что происходит что-то страшное.
Много лет спустя, уже в 70-е гг., я приехал в Радомышль. Все 10000 евреев, живших в этом городе, (кроме трёх выживших из ума стариков) погибли. Я был в лесу на братских могилах, покрытых елочными осыпями. Не было ни одной таблички о погибших. Там лежали почти все мои родственники, оставшиеся в Радомышле. И еще невероятное случилось в Радомышле в этот мой приезд. Я почти мистически угадал место, где был когда-то родительский дом, и за мной, звеня копытцами, шёл жеребенок, совсем как из моего детства.
Итак, мы в 30-е гг. бежали в Баку. Мой бедный дедушка - лесник и хозяин молельни в Радомышле - недолго прожил в Баку. Он стоял целый день у жаркого окна, молчал и смотрел на раскаленные солнцем камни. Это был не его воздух, не его мир. Вскоре мы его потеряли.
Жить было не на что. Сестра моего отца раздобыла старую шерстобитную машину и привезла ее в Баку. Мы жили в двух комнатах. В одной - собирали машину, в другой мы пятеро - отец, мать и нас трое - кое-как разместились.
Я любил старшего брата - Петра. Он писал стихи и дружил с интересными людьми. Дарил мне то блокнот или ручку, то книжку, и серьезно относился ко мне. В армию он был мобилизован еще до войны. Война застала его недалеко от границы, вскоре его часть попала в плен. Выдавая себя за азербайджанца, Петя смог, живя на оккупированной территории, несмотря на тяжелую болезнь, связаться с партизанами. Он стал подрывником и участвовал в уничтожении 14-ти фашистских эшелонов. Письма от Пети мы получали 2 месяца, а потом он замолчал. В 20 лет Петя был повешен фашистами. Петина судьба - боль всей моей жизни.
Вскоре на войну ушёл второй мой брат - Михаил. Он воевал в морском флоте на Балтике, а затем почти 2 года служил в бухте “Провидение”, где принимали американские транспорты с оружием.
Остался дома я один, с работающим с утра до ночи на шерстобитной машине отцом и больной матерью. Я мечтал уйти на войну. Одна мысль не оставляла меня: если я не буду на войне, я ничего не смогу написать, а замыслы были большие. Я уже достаточно надоел военкому, через год он согласился отправить меня на фронт. Мне было 16 лет. Что творилось дома, не стану говорить. Хотя у матери были сестры, и жили неподалёку, я всю жизнь несу вину перед мамой за то, что оставил ее.
Моя военная жизнь началась с того, что я попал в монастырь Нового Афона, жил 3 месяца в келье и учился на авиастрелка. С 11-ой новороссийской дивизией освобождал Одессу, потом перебрался в Прибалтику, освобождал Кёнигсберг, где для меня и кончилась война. 8-го мая 1945 г. объявили об окончании войны, а 9-го мая по тревоге дивизия была поднята на уничтожение немецкой авиации, которая искала спасения в странах Балтики. Мы понесли большие потери, погибли лучшие лётчики. Среди них - командир звена, на его груди было 4 ордена Боевого Красного Знамени. Я хотел лететь с ними, но он не взял меня: “Отвали, салага". Так он спас меня.
В нашей бедной еврейской семье не отмечали дни рождения. Я не знал своего дня появления на свет, и дату, для меня на тот период жизни главную, 9-е мая, день Победы, сделал в документах официальным днем своего рождения. Много позже дочь в одном из писем с фронта нашла подлинную дату -15 марта.
Сразу после войны я поехал не домой, а в село Матвеевку под Чигириным, где, я знал, скрывался у местной женщины Петр. Я должен был узнать его судьбу. Я узнал, что смог, о его последних месяцах жизни. Он был повешен на базаре в Чигирине, его Голгофа продолжалась 3 дня. Где он похоронен, неизвестно. Поиски, которые вели и ведут местные поисковики, ни к чему не привели.
Тайну смерти Пети знали только я и брат Михаил. Это была рана всей семьи, хоть мы с братом так и не сказали о ней родителям. Отец и мать, нам казалось, всё же надеялись, что Петр жив и даст о себе знать. Я иногда думаю, может, надо было им сказать правду?
После войны меня - “победителя, в боевых наградах” на работу не брали. Через месяц я понял, что нечего мне и думать о работе в газете, хотя на войне я работал в газете, заменив погибшего ответственного секретаря редакции, и даже напечатал 3 стихотворения.
Я ощутил то, чего на войне вокруг меня не было - антисемитизм. И только сейчас понял слова своего военного друга Пети Еремина: “Ты совсем не похож на жидёнка, крестись”. Тогда эти слова были мне непонятны и неприятны.
Сейчас я понял его интуитивно уловленное предчувствие антисемитизма и наивное желание уберечь меня.
Пришлось идти на шерстобитную машину к отцу. Работа была очень тяжёлой.
Потом работал в Минчегауре в газете “Минчегаурский строитель” ответственным секретарём.
Минчегаур был труднейшим периодом моей послевоенной жизни, там типографский набор осуществлялся вручную. Всегда был страх, что буква “Л” или “С” выпадут во время печатания, и будет кошмар. Я упрашивал наборщиков, чтобы они не пили во время работы, не прятали под станиной селёдку, но они отвечали, что работали с самим Горьким и указывать им не надо. Кроме того, после моих статей о воровстве кирпича, обо мне вспомнили герои этих статей и отомстили. Угрозы, пьяные крики с ножами в руках - и так целая ночь! Потом решением парткома я был уволен из Минчегаура за “неправильное освещение положения дел на строительстве гидростанции”, за “превышение прав газетчика”.
Там же, в Минчегауре, я заболел редкой формой малярии с итальянским названием “папатаччио”. Через 8 дней без сознания с температурой 41°, на учебном самолете, в открытой кабине, меня доставили в Баку, выжил я чудом.
В Минчегауре же я зарегистрировал брак с поэтессой Инной Лиснянской. Переехав в Баку, постепенно я начал сотрудничать внештатно с несколькими журналами и газетами. Основная тема - нефть. В “Бакинском рабочем” мне предложили стать ночным выпускающим. В одном из номеров публиковалась речь Берии. В тексте его речи была допущена страшная ошибка, в слове “трудящиеся” при переносе выпало “дя”, получилось “200 миллионов трущихся”. Обнаружил это я. Я ждал тюрьмы. Но повезло - всего лишь уволили. Я старался печататься в разных журналах.
В журнале “Литературный Азербайджан” опубликовали мои стихи не под моей фамилией Коренберг, а дали мне громкую и звучную фамилию “Корин”. Они даже не подозревали о большом русском художнике Корине. Это произошло потому, что в редакции были почти только евреи и они не хотели, боялись публиковать ещё одного еврея. Так возник мой странный псевдоним.
В 1951 г. у меня родилась дочь Елена, будущий прозаик (Елена Макарова). В 1961 г. мы переехали в Москву. В 1965 г. удалось прописаться в Химках. Я уже был автором 2-х книг, но подлинно моей стала 3-я книга “Смена ритма”.
Волею судьбы я стал свидетелем драмы Праги в 1968 г. Эта драма стала и моей собственной личной трагедией. Мы с дочерью приехали в Прагу по вызову друзей. В это время, в Праге проходил всемирный конгресс славистов.
Танки, вошедшие ночью, и ночной воздушный десант захватили Прагу. Боль, стыд, отчаяние, бессилие, торжество зла, попранность надежд - всё обрушилось на меня. Я страдал так же, как и мои друзья - чехи. Но я и делал, что мог! Я помогал сочинять листовки и надписи на стенах. Типичные надписи: “Советские, вон из Чехии”, “Вас никто не звал”, “Убирайтесь вон”. Несмотря на просьбы чешских друзей не рисковать, я беседовал с советскими солдатами. Никто из них не знал, где они находятся. Им говорили - “на учениях”. По-русски они понимали только команды, были они, в основном, из Средней Азии и Кавказа. По чешскому радио всё время шли призывы не сопротивляться, т.к. маленькая Прага не может воевать с громадным СССР. И сквозь грохот и ужас происходящего - по радио, наряду с призывами не сопротивляться (все помнили кошмарный опыт Венгрии), звучали пронзительные стихи Марины Цветаевой “К Чехии” о вторжении Германии в Чехословакию.
Материалы о трагических днях я вёз из Чехословакии в Москву. Они были адресованы генералу Григоренко.
Несмотря на конец “пражской весны” я понял, что приходит конец советской власти, хоть ещё этого почти никто не видит, но это необратимый процесс и с каждым часом он всё ближе. Моё пребывание в партии, куда я вступил на войне, казалось мне всё более позорным, но выйти из партии тогда было нельзя, это означало бы полное.уничтожение литературного существования - издавать не будут, печатать не будут, переводы давать не будут.
В “Смене ритма” (3-я книга) впервые появляются стихи новой стилистики “Повесть о моей музе”, адекватной моему новому мироощущению. Хотя сами стихи с темой Праги до сих пор не опубликованы у нас, они переведены на чешский, как и проза моей дочери, широко известны в Праге, где каждый год 21 августа их читают по радио.
Моё пребывание в Чехословакии заметили. Со мной беседовали в КГБ. Мне говорили не только начальники, но и как бы порядочные люди о недопустимости такого поведения, каким было моё в Праге. Журналы для меня закрылись.
Через 10 лет, в 1977 г., без моего ведома и непонятно до сих пор каким образом журнал “Время и мы”, издававшийся в Израиле, опубликовал большой цикл моих стихов под шапкой “Если все живут в обмане”. И это заметили. Я сам видел, как в “Новом мире” читали, передавая друг другу, эту подборку поэты. Опять со мной беседовали. Предложили каяться. Я отказался. “Так широко меня здесь, в Союзе, никогда не печатали. Я, наоборот, благодарен им.”
Журналы для меня оставались закрытыми.
Первый брак вскоре был расторжен. Во втором мне улыбнулось счастье. Моя жизнь резко изменилась. Я нашел верную жену - Ирину Гилярову, которую полюбил с первого взгляда. Горизонты в моей жизни раздвинулись, как и само творчество. Я закончил “Автопортрет”, первый том любовной лирики, а также поэму “Брат” о старшем брате Петре. Особый, новый для меня стиль - стиль, который я не встречал нигде и ни у кого - стиль “Повести о моей Музе” и “Автопортрета” - сразу же высоко оценил Булат Окуджава, чем очень меня обрадовал и поддержал.
В “Автопортрете” появились первые стихи об отце, очень важные для меня. Также появились в “Автопортрете” стихи о любви и сам “автопортрет”. Эти 3 раздела дали основные направления моей поэзии по 1980 г. Очень важным я считаю появление в моем творчестве темы внука, который родился в 1975 году. Это отметили и высокочтимые мною поэты - Мария Сергеевна Петровых, считавшая, что я тем самым ввёл новую тему в русскую поэзию. Об этом она говорила А.А.Тарковскому. И, что особенно радостно, А.А.Тарковский с ней был абсолютно согласен.
Но самое главное - А.А.Тарковский познакомил меня с книгой “Цветочки” о Франциске Ассизском. Узнав, что я не знаком с этой книгой, он сказал просто: “Садитесь и читайте”. Кстати, случилось так, что и стихи о внуке я писал в его доме. Прочитав “Цветочки”, я понял, что от Франциска я никогда не уйду. И стал писать стихотворения о нём, одно за другим. Какова же была моя радость, когда Арсений Александрович их одобрил! И подарил книжку “Цветочки” издания 1911 г., такую же как у него. Также книгу стихов В.Ходасевича он подарил мне. Но самое поразительное - Библия! Он привёз мне её в подарок из Польши, спрятав в протезе ноги. В те времена Библия у нас была запрещена. А ногу он потерял во время войны. С Тарковским меня связывала большая дружба, духовная близость, общность взглядов на поэзию и на жизнь. Тарковский меня облагородил, благодаря своей высокой культуре. Дружба с ним - дар судьбы.
Когда я поехал в гости к детям и внукам в Иерусалим, я увидел их счастливые лица. Когда я впервые ступил на эту землю, ощутил особую лёгкость во всём теле и лёгкость самой земли. Я пробуждался в 5 часов, и стихи сами ложились на бумагу. И так весь месяц. И во второй поездке к детям было так же.
Так сложилась книга “Город Бога”, из которой было много перепечаток журналами разных конфессий.»
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими наградами.
Григорий Александрович Корин умер 5 июня 2010г. в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.
Арсений Тарковский о Корине:
Поэт Григорий Корин - из этого - довоенного поколения советских поэтов. Он родился в 1926 году на Украине, потом, вместе с родителями перебрался в Азербайджан. Баку - город его детства. Когда для Григория Корина наступила пора юности, он, шестнадцати лет, ушел добровольцем на фронт; служил стрелком в составе морской авиации, участвовал в освобождении Новороссийска и Одессы, во взятии Кенигсберга. Первые стихи начинающего поэта были опубликованы в дивизионной газете.
ЖИЗНЬ ПОЭТА
Для поэта жизнь сама
Редко выбирает время.
И не требует ума
И не сводит всех со всеми.
От войны до мирных дней,
От волны до стен Гулага
Только боль одна ясней,
И обманчива бумага.
Докопаться до всего,
Ждать полвека перемены.
Хватит ли на одного
Чей-нибудь ответ бесценный.
Время не сольется вмиг
В море в океан и в реку,
У него свой черновик,
Беловик - не близок веку.
Как ни бьешься, не поспеть,
Авгиевы сплошь конюшни.
Ты кого хотел воспеть,
Вечный, рыщущий, воздушный.
А может быть, не тем я был,
Кем я себя вообразил.
И, может, вовсе и не я
На сих страницах жития,
А кто-нибудь совсем другой
Их начертал моей рукой,
Откуда-то продиктовал
Войну, невзгоду, вздор, развал.
И все попрал мое во мне,
Все подменил, как в жутком сне,
Набором чьих-то образцов,
И не могу найти концов…
Источник:
Здесь