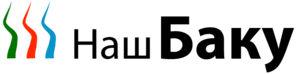Кнут Гамсун "В сказочной стране"
Кнут Гамсун "В сказочной стране"[править]
Вступление
Гамсун всегда мечтал о путешествие на Восток и неоднократно писал об этом друзьям еще во времена своей голодной юности в Копенгагене.
И наконец, в 1898 году, с получением от Союза писателей Норвегии стипендии в 1200 крон, появилась возможность реализации его мечты - посетить Азербайджан, Россию и Турцию.
Кнут Гамсун с женой Бергльот проехали через Россию по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Кавказ и далее отправились в Турцию.
Результатом этого сказочного путешествия стали две книги очерков - «В сказочном царстве» и «В стране полумесяца» (1903).
Описание путешествия Гамсуна в Россию, Азербайджан и Турцию внешне представляет собой идеальный образчик путевых заметок, поскольку построена в виде хронологического описания поездки конкретных людей с приведением точных географических названий, описаний природы и действующих лиц.
Однако «В сказочном царстве» не простая книга путевых очерков, она, по мнению скандинавских критиков, - одно из самых субъективных описаний путешествий, какие когда-либо были написаны. Ее тема не столько Россия или Кавказ, сколько «самовыражение в высшей степени своеобразной личности автора» (Р. Фергюссон). Русские же критики, сразу после выхода, считали книгу неудачной, потому что в ней «немало наивностей, неточностей, а иногда и просто ошибок». Эта же особенность не ускользнула и от внимательного взгляда горячего поклонника Гамсуна А. Куприна, писавшего: «Увы! талантливый писатель все-таки не избежал здесь исторической клюквы и самовара».
Однако невозможно не заметить, с какой любовь описывает Гамсун увиденное им и услышанное на совершенно непонятном русском языке. В его описаниях нет ни злобы, ни раздражения, зато есть удивительное чувство детской радости от встречи с незнакомой жизнь, с чудом. Он действительно оказывается в сказочной стране, где все по-другому, все иначе, чем дома - и это его увлекает и развлекает.
Из Москвы Гамсун с супругой едут во Владикавказ и далее - в Тифлис и Баку.
Баку поразил Гамсуна, который увидел в нефтяных вышках не технический прогресс, а грязь и зло, которые несут разрушение естественной среде. «Но вот сюда вторглась Америка с грохотом своих машин», - сетует он. И ему нет дела до того, что Америка тут совершенно не при чем - ведущей нефтяной компанией в те времена была компания Нобелей, шведских предпринимателей.
Бергльот же напишет подруге из Баку:
«Мы сейчас в самом восточном городе Европы на берегу Каспийского моря... Керосин и нефть бьют прямо из-под земли целыми фонтанами... Скоро мы едем в Константинополь».
Сразу после выхода «Путешествие в сказочную страну» собрало восторженные отзывы критики. Так, в газете «Эребладет» было написано:
«Совершенно очевидно, что Гамсуну под силу любой жанр литературы, он мастерски справиться с любым из них. Но «В сказочном царстве» он показал себе с новой стороны, ведь он написал книгу путевых очерк, - а путевой очерк, как известно, скучен по определению, - и вот этот самый скучный жанр он превратил в литературный шедевр».[1]
Кнут Гамсун. В сказочной стране: Переживания и мечты во время путешествия по Кавказу[править]
(перевод М.П.Благовещенской)
XIV[править]
Мы в поезде, который несёт нас в Баку...
Мы хотели ехать во втором классе, но он был так переполнен пассажирами, что пришлось отказаться от этого намерения; мы с большим трудом могли найти место для себя, но наши вещи некуда было поставить. После долгого блуждания по поезду мы водворились наконец с нашими чемоданами в первом классе. Когда эти хлопоты были окончены, мы вдруг сразу увяли. Термометр в купе показывал несколько более 31 градуса...
На этой линии также локомотив отапливается сырой нефтью, и запах от неё невыносим при такой жаре. Но нам, курящим, не так ещё плохо, на меня в особенности папиросы действуют освежающим образом. Здесь курят во всех купе, нет ни одного купе для некурящих; даже в дамских отделениях есть пепельницы. Грязь в вагоне ужасная, клопы так и ползают по сиденью и по стенам.
Местность бедная и печальная, всё выжжено и засыпано песком пустыни, песком степей. Лесов нигде не видно. Мы приезжаем на станцию Акстафа, где есть буфет. Меня всё время мучила лихорадка, и я выпил пива, лёгкого русского пива, чтобы утолить жажду; но так как оказалось, что от пива становится ещё жарче, то я перешёл на кавказское вино. Это вино напоминает вкусом итальянское простое вино, и в первое мгновение оно мне очень помогло. Но только на одно мгновение. А потом мне стало совсем плохо. Чего мне следовало бы выпить, это чаю. Недаром местные жители всегда возят с собою в поезде самовары и целый день возятся с чаепитием. Здесь в Акстафе я перешёл в другую крайность и выпил воды. Воды из реки Куры. Но это было чистым безумием. Ибо тот, кто хоть раз напился воды из реки Куры, будет вечно тосковать по Кавказу и стремиться туда обратно...
XV[править]
Половина седьмого утра. Баку весь окутан огромной тучей белой пыли. Всё здесь или белое, или серое, известковая пыль покрывает людей, животных, дома, окна и те немногие растения и деревца, которые растут в парке. Вся местность кажется какой-то странной, потому что всё белое. Я вывожу буквы на столе гостиницы, покрытом пылью, но немного спустя они снова засыпаются пылью и исчезают.
Кроме того, воздух во всём городе насыщен запахом керосина. Он преследует людей повсюду, и на улицах и в домах. Первое время с непривычки этот воздух вызывает кашель. Керосин примешивается также и к пыли на улице, и когда дует ветер, — а ветер здесь почти никогда не перестаёт, — то от этой пропитанной керосином пыли появляются жирные пятна на платье. Нам казалось, что мы очутились в самом неприятном месте, хотя мы и увидели Каспийское море.
В Баку около 125 тысяч жителей, и это самый важный торговый город на Каспийском море. В гавани большое движение, там суетятся на кораблях, на лодках и на железной дороге и при всевозможных паровых машинах. Странное впечатление производит эта суетливая современная жизнь наряду с целой вереницей верблюдов, лежащих перед каждым складом, где на них нагружают товары.
В глазах верблюдов бывает иногда необыкновенно странное и злое выражение. Раз одного полунагруженного верблюда заставили встать и потом снова лечь. Но сделал он это с таким видом, точно поклялся отомстить. Он оскалил большие жёлтые зубы, и его тёмные глаза загорелись яростью. Его ударили по морде, и он закрыл глаза. Однако когда я стал наблюдать за ним, то заметил, что он снова приоткрыл немного глаза и искоса посматривал на своего мучителя.
Мы должны были поехать в Чёрный Город, предместье Баку, резиденцию керосиновых компаний. Нас везёт туда перс; все извозчики — персы; они едут, как дьяволы, а так как нет никакой возможности разговаривать с ними, и сами они не желают понимать знаков христианина, которыми хотят дать им понять, чтобы они пожалели лошадей, то остаётся только одно: сидеть смирно. И ещё одно: выйти из экипажа.
Я дал кучеру ясно понять знаками, что лошади такие же Божьи твари, как и мы, и что по новейшему исследованию предполагается даже, что у них есть душа, и что они следовательно почти люди; но этот проклятый перс только смеялся над моими западными теориями и продолжал скакать с нами в Чёрный Город так стремительно, что мы ехали то на одном колесе, то на другом.
Наконец-то мы остановили этого человека, расплатились с ним и стали ждать паровика. Уж не думаете ли вы, что извозчик извлёк какое-нибудь назидание из этого урока? Ничуть не бывало. Ведь он вёз «англичан», и он знал, что они взбалмошны. Он принялся завтракать тут же на козлах. Он вынул из ящика под сиденьем два ломтя пшеничного хлеба и кисть винограда и стал откусывать поочерёдно то от одного, то от другого. Мы невольно вспомнили об извозчиках в нашей милой стране пожирателей мяса.
Паровик доставил нас на место нашего назначения, Чёрный Город минирован трубами, по которым течёт керосин; конка проходит по маленьким жирным прудам, пробивающимся из-под земли; поверхность этих прудов отливает самыми разнообразными металлическими цветами. Запах здесь ещё сильнее, чем в Баку, и всё-таки, несмотря на то, что всё здесь покрыто пылью с примесью керосина, кое-где при жилых домах видны маленькие садики, чего совсем нет в керосиновых городках в Пенсильвании. И люди здесь иначе одеты, — всё ходят в шелку, в персидском суровом шелку, как бедные, так и богатые.
Мы спросили, где дом Нобеля — это было то же самое, что спросить в Христиании, где королевский дворец. Мы разыскали наших спутников во время поездки через Россию, инженера и его семью. У него был хорошенький и уютный домик с садом на дворе, в котором сама хозяйка дома посадила акации. Этим прекрасным людям жилось здесь хорошо и спокойно; но иногда им приходилось закрывать окна на улицу, когда запах керосина становился невыносимым. А в такую жару бывало очень тяжёло сидеть с закрытыми окнами.
Инженер страдал кавказской лихорадкой в течение всего времени, которое он провёл в Баку. Когда он в свободное время приезжал на лето в Финляндию, то он избавлялся от неё, но едва он возвращался в Баку, как лихорадка снова овладевала им. Жена его, которая родилась здесь, чувствовала себя в этом нездоровом городе, как дома. И она с любовью отстаивала Баку.
Инженер водил меня по многочисленным зданиям, мастерским и конторам этого грандиозного предприятия. У фирмы есть свои собственные кузницы, литейные, плотничьи мастерские, модельные мастерские и чертёжные. Во многих из этих заведений служат финны, шведы и датчане. Инженер показывал мне также и заводы. Здесь были такие чудовищные печи, что я совсем растерялся, жара доходила до 400 градусов. Это был жар, накаливавший добела, и этот адский огонь гудел, словно маховое колесо. Я поспешил к двери, спасаясь от этого белого гуденья, и остановился только в одной мастерской, где я снова мог видеть и слышать по-человечески.
Инженер всюду давал мне объяснения. Но когда я хотел записывать то, что он говорил, то он просил не делать этого. Он не знал, понравится ли это его хозяевам. И я избегал писать на виду у всех, но держал книжку за спиной и писал. Однако это была трудная работа и подвигалась она очень медленно. Я пропустил много ответов на мои вопросы, так как не мог достаточно быстро записывать. А кроме того, буквы представляли собою нечто невозможное и походили на замысловатые крючки в лавочках писцов в Тифлисе. К тому же я должен был быть так краток, что уже только по этой причине мои записи были непонятны.
Что, например, означает следующая фраза: «261 паровой котёл»? Этого я не знаю. Такое количество паровых котлов, конечно, может дать мне понятие о могуществе фирмы; но пусть меня простят, я не знаю, где они стоят, на что они употребляются, почему под ними постоянно топят. Нобель — богатый человек и мог, конечно, завести у себя порядочное количество паровых котлов. Он любил паровые котлы и любил разводить под ними огонь. Когда он заметил, что у Сюлли-Прюдома не было огня под его котлом, то он дал ему сто тысяч крон на топливо.
Другая фраза в моих заметках гласит следующее: «13 сортов индиго в стаканах».
Из этого тоже ничего нельзя понять. Но я отлично понимаю, что Нобель старался придумать различные краски. Этот проклятый город Баку до такой степени побелел от извести, что от этого только можно сойти с ума. Но красить его тринадцатью различными сортами индиго — это уже, пожалуй слишком! На это, пожалуй, и у самого Нобеля не хватит средств. Это одно хвастовство.
Должен признаться, что заметки мои действительно очень запутаны. Строчки идут таким колесом, что мне больно смотреть на них, и я подозреваю, что краска индиго попала не на свою строчку. Но пусть меня не обвиняют в легкомыслии при изучении своего дневника. Я добросовестно разгадываю тёмные места и искренно радуюсь, как истый учёный, когда прихожу к верному выводу.
А всё дело, по-моему, в следующем: инженер повёл меня сперва в один дом. Туда валилась зеленовато-коричневая каша, которая, по-видимому, имела не более ценности, нежели всякая другая грязь; но оказалось, что это было сырьё, нефть. И вот здесь, в этом доме, этот суп дистиллировали и превращали в бензин, газолин, риголин и тому подобное.
Потом инженер повёл меня в другой дом и показал мне, во что может ещё превратиться сырая нефть, и при этом он перечислил мне такое множество различных веществ, что я не имею никакой возможности разобраться в моих заметках. Было очень трудно записывать всё это у себя за спиной, и я прямо сказал инженеру, что на мой взгляд из этой грязи дистиллируют слишком много всевозможных веществ. «Слишком много?» — спросил инженер и показал мне полку, на которой стояло тринадцать сортов стаканов. Вот тут-то я и сделал несколько шагов в сторону и перепутал строчки в моём дневнике.
Но инженер продолжал объяснять мне всё, что касалось нефти. «И вот, когда всё извлечено, — сказал он, — то остаётся это». И при этом он указал мне огромные сосуды с чем-то, что он называл металлическим жиром. Я слышал о всевозможных жирах и салах, о селёдочном жире, о трупном жире, но никогда — о металлическом жире. И вот теперь я увидал его. По правде сказать, эта страшная замазка производила отвратительное впечатление. Но это жалкое вещество, при виде которого у нас с инженером выступили слёзы на глазах, было не что иное, как главный продукт.
— Раньше мы выбрасывали его в море, — сказал инженер, — теперь же мы употребляем его на топливо, мы топим им наши котлы, приводим в движение наши пароходы на Каспийском море, отправляем его в Астрахань и снабжаем им речные пароходы на Волге.
— Боже ты мой! — воскликнул я.
— А в заключение мы перегоняем из него краску индиго, — продолжал инженер.
Вот тогда-то я и записал краску индиго в мою книжку, куда попало. И перепутал строчки.
Инженер едет с нами в город и водит нас повсюду. Жара нестерпимая, и я покупаю себе в одной из лавок готовую куртку из жёлтого шёлка. Теперь я приобрёл несколько странный вид; но мне стало гораздо легче жить после того, как я расстался с моей скандинавской курткой. Кроме того я приобрёл также и веер, который взял в руки.
Все люди здесь были одеты более или менее странно; город стал настолько персидским, что перестал быть европейским, но он остался ещё настолько европейским, что не сделался персидским. Шёлковых платьев здесь множество; мы видели дам в шёлковых платьях с вышивкой ручной работы; но на платьях висели дрянные берлинские украшения. Мужчины в персидских шёлковых платьях щеголяли в разноцветных немецких галстуках. В гостинице были драгоценные персидские ковры на полу и на лестнице, а кресла и диваны были обтянуты персидской материей; но сами диваны и кресла были так называемой венской работы, как и туалетное зеркало с мраморным подзеркальником. А хозяин носил золотые очки...
Крепость
Мы едем в крепость. Она расположена в центре старого Баку; эти колоссальные стены с завитками возведены в персидско-византийском стиле. Они окружают ханский дворец и две мечети. В настоящее время ханский дворец превращён в военный склад, и необходимо разрешение коменданта, чтобы проникнуть за стены крепости. Но чтобы получить это разрешение, я должен послать коменданту свою визитную карточку. А карточек у меня не было.
Я стою перед часовым и не знаю, как мне быть. «Раз во Владикавказе тебе так повезло с карточкой Венцеля Хагельстама, то ты можешь попытать теперь счастья с карточкой его жены», — думаю я. И я предъявляю дежурному карточку, на которой напечатано: «Фру Мария Хагельстам». Дежурный кивает головою и просит показать ему мой паспорт. «Господи, помоги и помилуй!» — воскликнул я мысленно, но я вынимаю свой паспорт и показываю его. Дежурный смотрит на оба документа, сравнивает имена и, конечно, находит, что буквы совпадают. Потом он стучит в дверь и идёт с паспортом и карточкой к коменданту. Теперь мы посмотрим, удалась ли моя мошенническая проделка. Я не очень надеялся на удачу.
Дежурный возвращается, отдаёт мне паспорт и посылает молодого поручика показать мне всё. Я был спасён. Поручик кланяется и ведёт нас. Казак с заряжённым ружьём следует за нами по пятам.
Пока я хлопотал со всем этим, мои спутники стояли снаружи, как ни в чём не бывало, и не испытывали ни малейшей тревоги.
Ханский дворец, как говорят, пятнадцатого столетия. Снаружи он не представлял собою ничего особенного, а во внутреннее помещение нас не пустили. Конечно, во дворце двери были не заперты, потому что у всех этих дверей и порталов нет створов; но тем не менее мы не получили доступа во внутренние покои и закоулки низложенного властелина. Поручик говорил только по-русски, а потому было очень хорошо, что с нами был инженер.
Нам показали главный вход. За исключением художественного персидского орнамента над порталом, ничего особенного в этом входе не было. Вход в гарем был очень узкий, как и подобает быть восточному входу для женщин; особый вход для фавориток был несколько лучше. В длинных коридорах были дверные отверстия в маленькие комнаты, в кельи, которых было очень много.
У последнего хана в Баку было с полсотни жён, — сообщил нам поручик, — и он бежал со всеми своими женами, когда русские в 1806 году завоевали его край и заняли город. Но он был большой негодяй, этот самый Гусейн Кули-Хан, он велел заколоть покорителя, генерала Цицианова, кинжалом в то самое мгновение, когда ему передавали ключи города. И вот мы стояли перед дворцом восточного властелина. Окружающие этот дворец стены с бойницами доказывали. что он был построен в не особенно мирное время.
Это жилище необходимо было защищать оружием. В доме нет окон, а лишь большие полукруглые отверстия, через которые в изобилии проникает свет в палаты. Здесь между колоннами был настоящий рай, и тень показалась нам необыкновенно живительной после жгучего солнца, от которого мы здесь спаслись. Мы пошли всюду, куда только могли иметь доступ: здесь принимали народ, здесь была зала суда, где объявлялись приговоры, здесь палата с каким-то возвышением, на котором, быть может, восседал властелин на своём троне. Звуки наших шагов отдавались от каменных стен. Каких-нибудь сто лет тому назад мы не могли бы так свободно ходить здесь, потому что хан в Баку был могущественным властелином.
В стенах крепости находились также две мечети, вокруг портала одной из них были необыкновенно изящные орнаменты. Мы ждали, что какой-нибудь мулла будет созывать с вершины минарета правоверных на молитву; однако пробило двенадцать часов, а он всё не появлялся. Когда мы сказали это поручику, то он сейчас же крикнул нескольким старикам в тюрбанах, сидевшим по близости мечети, — и в конце концов они поняли его; они покачали головами: мулла был болен.
Русский поручик со своим казаком водил нас по всей крепости, и когда мы расставались с ним и благодарили его, то он с улыбкой ответил, что ему доставило только удовольствие быть нам полезным. И он долго стоял, приложив руку к козырьку.
Мы хотели было поехать к Кыз-Каласы, к Башне Девы, о которой ходит романтическое предание, но жара сделалась настолько удушливой, что мы принуждены были отказаться от нашего намерения. Мы поехали в парк. Всё здесь завяло от жгучего солнца, всё было сожжено, покрыто пылью, всё было светло-серого цвета. Это зрелище производило тяжёлое впечатление. Здесь были кое-какие маленькие деревца, акации, миндальные и фиговые деревья. Было ещё несколько жалких цветочков, которые привыкли поддерживать в себе жизнь от дождя до дождя.
Но вообще всё казалось таким безнадёжным. Листья, которые я смочил слюной и очистил от пыли, я должен был вытирать очень осторожно, так как они хрустели — до того они были выжжены солнцем и пропитаны известковой пылью. Мгновение спустя после того, как я открыл им поры и они могли начать дышать, они свернулись от зноя и производили такое беспомощное впечатление, что я сейчас же снова покрыл их известковой пылью. Не будь ночной обильной росы, они не могли бы вынести этого.
Но в солончаковой степи живёт чертополох при ещё более тяжёлых условиях. Почва, на которой он растёт, состоит из глины и соли, а солнце жжёт его и жгучий ветер треплет, — и всё-таки чертополох растёт там маленькими кустами. Он твёрдый, деревянистый, он похож на металлическую проволоку с шипами. На эти пятна чертополоха, выделяющиеся в солончаковой степи, смотришь с большим удовольствием. Эти жёсткие растения стоят там, словно люди, смелые и дерзкие. Если на чертополох падает дождь, то он склоняется, как бы благодаря за ласковое слово; но в долгую нестерпимую засуху он только ещё больше выпрямляется и стоит гордый, несокрушимый и твёрдый, как человек во время невзгоды.
Только челюсти верблюда, сильные, как машина, могут жевать такой чертополох.
XVI[править]
В наше распоряжение предоставляется пароход из нобелевского флота для поездки к керосиновым источникам в Валаханах. И не в первый раз этот большой пароход фирмы вёз туда посетителей, это делается постоянно из года в год с большой готовностью и не считается событием. С нами поехало несколько любезных скандинавов, которые всё объясняли нам.
Был тихий вечер с лунным светом. После получасовой езды от Баку мы увидали, что море кипит чёрными водоворотами. И водовороты меняются, перемещаются и смеваются друг с другом, и своим беспрерывным движением они напоминают северное сияние. В «водовороты бросают пригоршню зажжённой пакли, и в то же мгновение всё море на этом месте вспыхивает ярким огнём. Море горит. Чёрные водовороты — это нефтяной газ. И вот мы должны плавать взад и вперёд в пламени и тушить огонь винтом.
Мы причаливаем к назначенному месту и сходим на берег. Земля влажная и жирная от керосина, по песку идёшь, словно по мылу, воздух насыщен таким острым запахом нефти и керосина, что вызывает у людей непривычных головную боль. Вся область с нефтяными источниками разделена на бассейны, на озёра, окружённые песочными валами; но бесполезно огораживать масло, оно просачивается в валы и делает их жирными и влажными.
Сырая нефть была известна древним евреям и грекам, и здесь на Апшеронском полуострове она употреблялась населением на топливо и освещение очень долгое время. Но только в последние тридцать лет из неё стали добывать керосин. Не говорю уже о «13 сортах в стаканах», как о ещё более поздних продуктах. Теперь здесь целый город буровых вышек, они повсюду, куда только хватает глаз — это целый мир, в котором вредно жить, это какой-то невероятный город из чёрных, жирных, грубо сколоченных нефтяных вышек. Но в вышках грохочут машины день и ночь; рабочие громко перекрикиваются, стараясь перекричать шум, вышки дрожат от исполинского бурава, который вонзается в глубь земли. Рабочие — персы и татары.
Мы входим в одну из вышек. Я задеваю шляпой балку, и шляпа становится такой чёрной и жирной, что уже никуда больше не годится; но меня уверяют, что на фабриках в Баку в одно мгновение удаляют масляные пятна химическим путём. Шум ужасен: смуглые татары и жёлтые персы стоят каждый у своей машины и исполняют свою работу. Здесь выкачивают нефть: черпало опускается в землю и через пятьдесят секунд возвращается назад с 1 200 фунтов нефти, потом снова погружается в землю на пятьдесят секунд и возвращается с новыми 1 200 фунтов нефти — и так это продолжается круглые сутки, беспрерывно. Но пробуравленная в земле скважина стоила денег, она глубиной в 500 метров, и буравили её целый год, она обошлась в 60 00 рублей.
Мы идём к другой вышке — здесь бурят.
Скважина ещё суха, бурав работает день и ночь в песке и камне, в скале. Эта скважина очень капризная, она известна своим своенравием во всём городе вышек. Это место открыли в прошлом году, здесь были верные признаки нефти, как, впрочем, и везде здесь, и его начали бурить. Проникли на пятьдесят метров в землю, а это почти и считать нельзя — вдруг вырывается фонтан нефти, фонтан невероятной силы бьёт из-под земли, убивает людей, сносит вышку.
Фонтан такой, который нельзя ничем удержать, это что-то стихийное, он извергает нефть в таком количестве, что образует целые озёра вокруг себя, заливает всю землю. Стараются запрудить его и насыпают валы, но валы слишком тонки, и вокруг них возводят новые валы, — фонтан выбрасывал нефти на полтора миллиона рублей в сутки. Он бил двое суток. Потом вдруг остановился. И уже после этого никакими силами земными нельзя было заставить его дать ещё хотя бы один только литр нефти. Скважина закупорилась. Очевидно, какая-нибудь скала в недрах земли закрыла источник.
С тех пор всё время бурили и бурили, но безуспешно; теперь проникли на 650 метров в глубину, но всё напрасно. А бурить продолжают, ведь когда-нибудь да пробурят скалу. Жёлтые персы и смуглые татары стоят у бурава с опасностью для жизни; начнёт бить этот неудержимый фонтан, как в первый раз, и Аллах вышвырнет всех людёй через крышу вышки, и они в один миг будут разорваны на куски. Но так уж судит Аллах. La illaha il Allah!
Этот шум машин вначале не был слышен на этом месте, Америка осквернила его и внесла этот грохот в святыню. Ибо здесь место «вечного огня» древности. От Америки здесь нигде не спасёшься: способ бурения, лампы, даже очищенный керосин — всё это Америка. Маккавеи жгли «густую воду» для очищения храма. Когда мы, устав от шума и почти ослепнув от нефтяных газов, собрались домой, то мы сели на пароход Роберта Фултона.
Завтра мы будем осматривать Сураханы. Слава Богу, там, говорят, стоит храм Огню.
И вот мы стоим на том месте, откуда христианство заимствовало своё поэтическое представление о «вечном огне». Здесь в недрах земли таился огонь, который не нуждался ни в каком питании, он горел сам собой и никогда не погасал, такой огонь был священный. Древние были плохими учёными, они не знали, что нефть происходит из допотопных растений, как и каменный уголь.
Они не знали даже и того, что наука оставила эту теорию и перешла к другой, а именно, что нефть происходит из органических веществ в земле, или просто от рыб. Древние были так глупы в науке. Они открыли эту густую воду, зажгли её, и она горела, горела вечно. Они поставили её в связь с Митрой, солнцем, которое также вечно горело и было образом Божьим. И густая вода стала для них священной, они поклонялись ей и совершали к ней паломничество. А когда кто-то воздвиг храм над этим источником огня, то благодарность их была очень велика.
Но вот среди добрых иранцев родился великий основатель их религии, по имени Зардуст, Заратустра. Ему казалось, что его народ поклоняется чужим богам, — это, впрочем, кажется всем основателям религий, — и вот он стал поучать о том, что не надо иметь так много богов. Он решил, что должен быть один добрый бог, по имени Ормузд, и один злой бог, по имени Ариман. Этого было вполне достаточно. Но с течением времени ему понадобился ещё один бог, который должен был стоять выше всех других, и он назвал его Митрой. И действительно Митра сделался очень великим во всём Иране.
И вот этому-то Митре и поклонялись здесь, у священного огня возле Баку.
А Заратустра продолжал развивать свою религию и очень хорошо исполнил своё дело. Он учил, что кроме тех трёх богов, из которых Митра был главным, существуют ещё три разряда добрых сверхъестественных существ: ангелы, которые также выше людей. Затем он учил, что есть ещё три разряда злых сверхъестественных существ: демоны и дьяволы. Одним словом, Заратустра научил христианство много хорошему.
И всё было хорошо и прекрасно.
Но случилось так, что иранцы не могли обойтись с одними только богами, им понадобились также и богини. «Ou est la femme?» — спрашивали они. И они возвели в богини одну женщину и назвали её Анаитис. Но тут иранцы принялись изменять и совершенствовать учение Заратустры и стали брать богов без разбора, даже из Вавилона и из Греции, и народ снова впал в идолопоклонство и многобожие. Иранские цари стали презирать учение Заратустры, оно было не иноземное, а потому могло ли оно быть особенно ценным? Цари покровительствовали эллинству, и даже сам народ нашёл маленькую прореху в своей религии, и указал на эту прореху, и поднял страшный шум.
Дело в том, что Заратустра не выяснил происхождение Добра и Зла и отношение между добрым богом и злым богом. Иранцы говорили так: если Добро и Зло происходят от Ормузда, а следовательно из одного и того же основного существа, то они теряют свой характер абсолютных противоположностей, — вот разберись-ка в этом маленьком обстоятельстве, говорили они, — а мы называем это прорехой. Вот видите, иранцы не были проникнуты нашими познаниями в этом вопросе. Мы такие пустяки очень просто разрешаем змием и яблоком.
Между тем, благодаря этому, учение Заратустры потеряло своё значение, а когда страной завладели магометанские калифы, то оно почти окончательно исчезло. Но некоторые, оставшиеся верными этому учению, переселились в Индию, где сохраняли свою веру неприкосновенной и где они живут ещё и по сей день под именем парсов; некоторые же остались в Персии, их всего несколько тысяч, это так называемые гебры, огнепоклонники. Из них некоторые до самого последнего времени жили возле храма Огня близ Баку.
Сюда стекались на поклонение парсы из Индии и гебры из Персии. Для этих благочестивых людей Митра остался тем же, чем был и раньше, богом над всеми богами, вечным, как солнце и как вечны огонь. Более священного места, нежели это, не было для человека. Магометане, эти выходцы, могли совершать паломничество только в Медину, а в Медине была одна только гробница; здесь же был живой огонь, своего рода солнце в недрах земли, Бог!
Уже издалека, едва завидя очертания белого храма, пилигримы бросались ниц, и их охватывал трепет, и они подходили к храму с величайшим смирением, часто падая ниц. Эти люди стали бедными и несчастными, потому что выходцы сделались господами их народа и оттеснили их самих в глухой угол их собственной земли; но в глубине своих сердец они хранили утешение, что только они, и никто другой, сохраняют истинную веру в Бога.
Магометанские калифы и персидские шахи жестоко преследовали их, когда они совершали своё паломничество к белому храму; но их вера была так велика, что они предпочитали надевать нечистое платье выходцев и совершать паломничество переодетыми, чем отказываться от своего опасного путешествия в Баку.
Прибыв к этому храму, они находили себе убежище в маленьких кельях, построенных вокруг этого благословенного дома. И в каждой келье горела маленькая керосиновая лампа, маленькое неугасимое солнце. Здесь гебры и парсы падали ниц и лежали так, отрешаясь от мира.
Но вот и в это место вторглась Америка и завыла. Когда пилигримы явились однажды, то нашли керосиновый завод, выстроенный возле самой святыни. Маленькие солнца в кельях были погашены, все струи газа были отведены на завод.
Тогда гебры и парсы мало-помалу покинули это место. Выходцы с востока воевали с ними, но победили их выходцы с запада. И они удалились в глухой угол своей земли, чувствуя себя побеждёнными. Теперь их святыня возле Баку стала одним лишь сказанием. Но живой огонь останется для них священным до тех пор, пока последний из этих верующих не умрёт. Потому что они огнепоклонники.
XVII[править]
Мы не можем получить здесь денег по нашему аккредитиву, этому французскому документу, который указывает на такую громадную сумму денег. Даже отделение нашего тифлисского банка в Баку никогда не видало раньше такой бумаги, и оно не решалось выдать нам по ней деньги, оно посылало нас в Тифлис.
Нечего делать, нам опять придётся ехать в Тифлис.
Но деньги нам были нужны сейчас же, необходимо было уплатить счёт в гостинице, а кроме того мы хотели купить кое-что в городе. По совету инженера, я пошёл к директору фирмы Нобеля, господину Хагелину, который к тому же исполнял одновременно обязанности шведско-норвежского консула в Баку. Я получил от него сто рублей, и получил эти деньги по первому слову, при чём расписка была отклонена. Господин Хагелин был изысканно любезный человек, который дал нам рекомендательное письмо к одному высокопоставленному лицу в Тифлисе. Он не спешил, у него нашлось время выслушать моё маленькое объяснение, и я объяснил ему, почему мне эти деньги нужны сейчас же, и сказал, что вышлю ему их из Тифлиса.
«Хорошо, очень вам благодарен», — ответил он и вынул из своего ящика бумажки. Я хотел показать ему аккредитив, но он сказал, что это лишнее. И только когда я развернул перед ним бумагу, он мельком взглянул в неё. Но тогда дело уже было окончено. Было очень приятно встретить такое доверие, а не быть вынужденным предварительно показывать аккредитив. Тогда мне ни на одну минуту не пришло в голову, что я стою перед большим дельцом. Тот мимолётный взгляд, который он бросил на мою бумагу, упал, конечно, именно на выведенную в ней сумму, на самое существенное, в чём и заключалась вся суть.
Примечание: