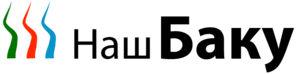Игорь Абросимов. Частная жизнь бакинской семьи на фоне событий далекого прошлого. Часть I. (Из воспоминаний) (перенаправлено с «Игорь Абросимов. Частная жизнь бакинской семьи на фоне событий далекого прошлого. (Из воспоминаний)»)
Игорь Абросимов. Частная жизнь бакинской семьи на фоне событий далекого прошлого. Часть I. (Из воспоминаний)[править]
- Воспоминания чаще всего пишут известные люди, либо те, кто жизнь таких людей наблюдал непосредственно, а также знает о ней определенно по рассказам родных и близких.
- Пишутся воспоминания и активными участниками ярких событий, примечательных и оставшихся в памяти большинства людей.
- При этом всегда считалось, что в ходе рассказа должны обязательно найти отражение какие-то подробности, пусть не столь значительные, которые ранее не были известны, но придают повествованию об известных людях и примечательных событиях определенную конкретность и живость.
- Мои воспоминания не вписываются в этот ряд. Они о другом.
- На примере жизни семьи, мало в чем, может быть, отличающейся от сотен других семей, в данном случае семей бакинцев, мне хотелось показать время, ушедшее время, в котором жили наши родные, которое пережили мы сами, наши друзья и знакомые.
- Показать и рассказать о нем со слов близких нам людей, мнению и взгляду которых мы, безусловно, доверяем, а также описать на основании своих собственных наблюдений.
- Мне кажется, трудно представить и почувствовать прошлое, в том числе, и без воспоминаний такого рода. Ведь и простые люди, как иногда их называют, люди обычных или почти обычных для того времени судеб, несомненно являются историческим персонажами, если посмотреть на их жизнь на фоне событий далекого прошлого...
Иван Семенович Плескачевcкий[править]
Иван Семенович Плескачевcкий, мой дед, переехал в Баку с женой и двумя дочерьми в 1908 году, когда ему исполнился тридцать один год. С тех пор вся его жизнь, до самой кончины, была связана с этим городом.
Фотограф Н.Литвинцев (Баку, против Парапета и Армянской церкви, дом Бабаевой - быв. Адамовой, тел. 21-53)
О жизни семьи, о времени и событиях, пережитых здесь, мне много и подробно расказывали его дочери, мои мама и тетя. И всегда в их рассказах главное место занимал отец. Он не был, конечно, какой-то выдающийся личностью, достойной фигурировать в энциклопедиях. Однако, приходясь мне дедом, добившимся определенных успехов и проживший жизнь достойно, неизменно вызывал интерес еще в детстве.
Будучи типичным и характерным представителем своего времени, Иван Семенович позднее всегда с интересом воспринимался в моих рассказах также знакомыми и друзьями. Вот почему первым героем моих заметок, когда я начал записывать свои воспоминания, стал именно он.
Иван Семенович родился в 1877 году в семье обедневшего православного малоросского шляхтича Семена Ивановича Гольцевич-Плескачевского, который много лет служил управляющим у небезызвестного графа Потоцкого.
Этот Потоцкий был сыном знаменитого польского магната, австрийского министра и министра-президента, позднее наместника Галиции - графа Альфреда Потоцкого. Громадное наследство Альфреда Потоцкого разделили между собой сыновья. Один из них получил фамильные имения на территории Австрии, а другой - российский подданный - богатые поместья и леса близ Шепетовки в Волынской губернии. Жил он там с семьей зимой и летом, и только гораздо позже, после революции 1905 года, будучи избран в Государственную думу, часто и надолго отлучался по делам в Петербург.
Иван Семенович не получил, в сущности, никакого образования, кроме так называемого домашнего. Но обучался он в Шепетовке вместе с детьми хозяина и обучался у хороших учителей, отобранных образованным графом в соответствии с самыми высокими требованиями.
Кроме всего прочего, Иван Семенович хорошо владел французским, неплохо играл на скрипке и фортепиано. Он рано начал самостоятельную трудовую жизнь, поступив на службу конторщиком на Макеевский металлургический завод в Донбассе, который принадлежал в те годы французской компании.
В Макеевке дед женился на Полине Андреевне Шумейко, моей бабушке. Ее обручальное кольцо, подаренное дедом, носит сейчас моя жена.
На внутренней поверхности кольца гравировка: «Ваня 17 февраля 1899 г.»
Бабушка умерла, когда я был уже большим мальчиком и учился в третьем классе. Хорошо помню рассказы о далеких годах ее юности, о Донбассе девяностых годов позапрошлого века. Бабушка помнила нередкие аварии и катастрофы на угольных шахтах. Гудел тревожно и беспрерывно гудок, и со всех концов поселка бежали к шахте жители, жены и дети шахтеров.
Из шахты поднимались уцелевшие, выносили тела погибших. А хозяин, стоя в пролетке, «одаривал» рыдающих женщин - золотая пятерка за погибшего кормильца.
Или еще картина. Холерные бараки на окраине Макеевки во время эпидемии холеры на юге России, случившейся тогда же, в 90-х годах XIX века. Больных выхаживают приезжие студенты-медики. А по поселку уже ползут слухи, что в бараках больных специально умерщвляют и зарывают в ямах с известью для того, чтобы быстрей покончить с заразой. Темный народ шахтерских поселков взбунтовался. Бабушка хорошо помнила этот холерный бунт.
Бараки разгромили, студентов избили и разогнали, больных, а также умерших из морга разобрали по домам. Через несколько дней для прекращения бунта прибыли казаки. Казаки обходили дома и всех заболевших снова свозили в бараки, по улицам разъезжали казачьи патрули. Кое-кого из участников беспорядков секли нагайками прямо у ворот собственных домов.
Для бабушки холера не была чем-то необычным. Будучи совсем молодой, она много ухаживала за холерными больными, своими родственниками. Часто вспоминала, как выходила двоюродную сестру, которую во время болезни держали и поставили на ноги дома...
Дед мой своим трудом и знаниями быстро завоевал на Макеевском заводе большой авторитет. Даже внешне его нельзя было не заметить и не отличить.
Громадного роста, физически очень сильный, он, по свидетельству людей, знавших его в более поздние годы, напоминал Петра, каким представил царя в известном кинофильме знаменитый актер Николай Симонов.
От экранного Петра отличало Ивана Семеновича уважительное и спокойное обращение с окружающими, что было, впрочем, весьма характерно в те времена для большинства образованных людей.
В 1908 году Ивана Семеновича пригласили на службу в синдикат "Продамета" (Продажа металла - прим. ред.).
Синдикат, образованный в 1902 году, за несколько лет монополизировал сбыт всей продукции русских металлургических заводов. Ни одного пуда чугуна, стали, проката черных металлов не могло быть продано в России помимо этого синдиката. Поначалу "Продамета" образовался в Донбассе, в руководстве синдикатом, главная контора которого с 1903 года обосновалась в Петербурге, ведущее место занимали тузы южнорусской металлургической промышленности, многие из которых хорошо знали деда по работе в Макеевке.
Когда синдикат открыл свое Кавказское отделение с конторой в Баку, этим и было предопределено назначение его управляющим.
Излишне напоминать, что никакие способности и успехи сами по себе, без механизма патрон-клиентских отношений, нигде не могли и не могут значительно подвинуть работника по служебной лестнице.
Другое дело, на каких основах связи эти устанавливались, на чисто деловых, как было это в случае с дедом, либо иных, не имеющих отношения и даже мешающих деловым.
Жалование Ивану Семеновичу положили по тем временам громадное, более 20 тыс. рублей в год.
Для сравнения приведу цифры, которые характеризуют размер тогдашнего жалования служащих. Только менее трети дипломированных инженеров-механиков, окончивших Киевский политехнический институт, зарабатывали более 3 тыс. в год. Инженеры, занимавшие высшие посты в Горном ведомстве, получали от 4 до 8 тыс. Начальники частных железных дорог имели жалование по 12 - 15 тыс., что считалось громадной суммой и превышало жалование министра.
После десяти и пятнадцати лет службы высокопоставленные руководители "Продамета" получали очень большие по сумме единовременные пособия, достаточные для того, чтобы после ухода на покой безбедно существовать только на банковский процент.
Имущественное положение семьи деда в свое время меня очень интересовало и нашло поэтому отражение в этих записках по одной причине - оно характеризует позицию, занимаемую семьей в социальной иерархии общества. Так же, как и принадлежность к дворянству в сословной дореволюционной России.
Впрочем, Иван Семенович давно утерял связи со своим сословием, хотя и числился в дворянских книгах Подольской губернии. И по роду своей деятельности, и по убеждениям и пристрастиям он не был дворянином, более того, считал недостойным кичится дворянским званием.
Это был человек новой эпохи, деловой человек, ценивший в людях не титул и звание, а ум, образование и умение трудиться.
Даже свою старую дворянскую фамилию он изменил, убрав еще в молодости первую ее составляющую (Гольцевич) и став просто Плескачевским.
Однако, он хранил «дворянские бумаги», которые сжег уже после революции, так как стало их опасно держать, а также исправно платил дворянские взносы. Делал он это ради дочерей, которых решил отправить на учебу в Петербург, в Смольный институт, куда принимали, как известно, только потомственных дворянок.
Ко времени переезда Плескачевских на Кавказ, Баку, в прошлом небольшой уездный, а затем губернский город на окраине Российской империи, стал крупнейшим индустриальным центром.
Ни один город в России не развивался в то время так быстро. В 1903 году в Баку было уже более 200 тыс. жителей. Нефтепромыслы в окрестностях города обеспечивали горючим не только всю страну, но и производили большое количество нефти на экспорт.
Нефтеперегонные заводы, сосредоточенные в Черном городе и его продолжении - Белом городе, перерабатывали нефть в осветительные масла, то есть керосин и солярку, смазочные масла и мазут.
Кстати, на мазуте работали все железные дороги Кавказа, суда, плававшие по Каспию и Нижней Волге, котельные заводов и фабрик.
Удобная Бакинская бухта позволяла быстро и без больших затрат расширить порт, который стал не только основным путем для транспортировки нефти, но и цетром перевозок самых разных грузов, торговыми воротами в Иран и Закаспийские области.
Береговая полоса в пределах города была почти вся, за исключением нескольких сот метров, отданных аллеям приморского бульвара, застроена пристанями и складами пароходных компаний «Кавказ и Меркурий», «Лебедь», «Каспий», занята Баиловскими доками и пристанями.
Еще в XIX веке железная дорога связала Баку с Тифлисом и Батумом на Черном море, а вскоре железнодорожный путь протянули по берегу Каспия на Северный Кавказ, соединив Баку с общей сетью российских железных дорог.
Добычей, переработкой и транспортировкой нефти занимались не только местные нефтепромышленники - Мирзоев, Манташев, Тагиев, но и крупные иностранные компании, такие как Каспийско-Черноморское нефтепромышленное общество, основанное Ротшильдом и Товарищество бр. Нобель.
Плескачевские, приехав в Баку, стали свидетелями стремительного, буквально на глазах, расширения площади современной городской застройки.
Новый центр города, расположенный по берегу бухты и сформировавшийся вокруг площади Парапет и улиц Михайловской (в советские времена ул. Зевина) и Ольгинской (ул. Джапаридзе), быстро застраивался многоэтажными каменными домами и выглядел вполне современно.
Доходные дома, особняки и дворцы, здания банков и контор известных торгово-промышленных фирм, театры, клубы, учебные заведения строились из местного известняка. Здания эти отличались архитектурными достоинствами и имели очень привлекательный вид, благодаря широкому использованию архитекторами различных вариантов ордерной архитектуры и обработке белокаменных фасадов, украшенных сложными профилями и деталями.
Излюбленным стилем стал в Баку ренессанс, в формах которого с большим вкусом спроектировано и построено большинство зданий того периода, что дало повод применить позднее удачный термин для характеристики этого бакинского архитектурного направления эпохи модерна – «плоскокрыший ренессанс». Ведь крыши в Баку традиционно проектировались плоские, с кировым покрытием, изготовленным на основе нефтяного битума.
Это придавало своеобразный вид всей городской застройке.
Хочется добавить, что много лет назад моими первыми детскими архитектурными впечатлениями стали такие бакинские здания как Филармония, построенное для летнего клуба бакинского Общественного собрания в Губернаторском саду, особняк Де Бура (на самом деле это здание никогда не принадлежало Де Буру и никогда, во время жизни Плескачевского в Баку, так никем не называлось; это здание было построено и принадлежало нефтепромышленному обществу "Каспийское товарищество" - прим. ред.) на Садовой (в советские времена ул. Чкалова), в котором многие годы жил партийный вождь советского Азербайджана Багиров, а позже открылся Музей искусств, Городская дума на Николаевской (Коммунистической) улице, где разместился Баксовет.
О том, что такое готика, я представил себе с дошкольных времен и навсегда запомнил, когда впервые увидал эффектный и на редкость выразительный дом Мухтарова, построенный в формах французской готики.
Нельзя не вспомнить сегодня здания мусульманского благотворительного общества «Исмаилия», возведенного на парадной в те времена Николаевской улице в духе веницианской готики.
В мое время, после перестройки и благоустройства окружающих кварталов, «палаццо Исмаилия», где разместился президиум Академии наук Азербайджана, неизменно привлекало внимание всех приезжавших в город своей необычо живописной архитектурой...
«Чистые» буржуазные кварталы с нарядными улицами, выросшие за сравнительно короткое время, производили уже в первом десятилетии прошлого века сильное впечатление.
В то же время городские окраины, а также многие кварталы, близко соседствующие с центральными районами, были застроенны малопривлекательными домами, зачастую хаотически, и воплощали худшие стороны старого восточного города, как например, часть города, ограниченного крепостными стенами.
А нагорная часть Баку имела тогда совершенно аульный характер. Город продолжал стремительно развиваться, кварталы продвигались в восточном направлении, вдоль берега бухты, смыкаясь с промышленной зонной - Черным и Белым городом, а также к северу, по плато над городом и бухтой.
Проблемой для Баку на протяжении десятилетий оставалась питьевая вода. Ее возили на наливных судах из устья реки Куры, а жителям доставляли водовозы. В городе работали также опреснители морской воды. В старых западных районах города продолжали функционировать колодцы и резервуары с родниковой водой. Для хозяйственных нужд максимально использовалась, в случаях когда это было возможно, и морская вода из специального водопровода.
Проблема была решена только во время Мировой войны, в 1917 году, когда пустили, наконец, Шолларский водопровод протяженностью почти в 200 км. Он доставил в город прекрасную по качеству пресную воду из источников предгорных районов Кавказа. С тех пор бакинцы гордились качеством и вкусовыми качествами своей водопроводной воды.
Но в начале века, в связи с нехваткой пресной воды, а также из-за каменистой, неплодородной почвы, в Баку было очень мало зеленых насаждений. Городское благоустройство также оставляло желать лучшего, многие кварталы не имели канализации, некоторые районы города подвергались вредному воздействию выбросов нефтеперегонных заводов, а вода в бухте во многих местах почти постоянно была покрыта слоем нефти и мазута.
Тяжелым и непривычным был для приезжих и жаркий бакинский климат.
Место управляющего конторой "Продамета", которое занимал Иван Семенович, недаром оплачивалось столь высоко. Бакинский район потреблял громадный объем металла, причем монопольное положение "Продамета" приносило этому синдикату и входившим в него металлургическим заводам громадные прибыли, увеличивающиеся по мере роста нефтедобычи.
Миллионеры-нефтепромышленники с большой охотой пошли бы на неофициальные сделки с руководителем конторы, добиваясь более выгодных для себя условий поставки металла, что сулило ему баснословные личные доходы, а синдикату, естественно, упущенные возможности.
При этом не требовалось даже идти на какие-то грубые злоупотребления. Достаточно было действовать в пределах допустимого, не воспользоваться, например, благоприятной для поставщика металла коньюктурой, сделать небольшую скидку, когда и без скидки возможна была продажа, не проявить в нужный момент предприимчивости и энергии...
Иван Семенович справедливо считался в этом отношении вне подозрений, и руководство "Продамета" ему безусловно доверяло. И вознаграждало соответственно. По единодушным отзывам, Иван Семенович был примером деловой корректности не только в вопросах, касающихся личных интересов и личных доходов. Все деловые вопросы решались им самым добросовестным и самым честным образом. Не могло быть и речи о каких-то коммерческих махинациях, ущемляющих интересы клиента.
Нравственные критерии, принятые среди порядочных людей, не отделялись от деловых отношений.
На примере моего деда можно вынести суждение, что деловой мир старой России ценил не только знания, работоспособность, энергию и профессиональную хватку, продвигая и поддерживая тех или иных людей. Такие качества как порядочность и честность были обязательными качествами преуспевающего делового человека. Размер прибыли и сиюминутная выгода в условиях «свободного рынка» не были тогда единственными и определяющими критериями. Многие факторы влияли на обстановку в деловом мире.
Поэтому наивны были наши недавние суждения, что само по себе свободное предпринимательство ставит все на свои места, что достаточно реформировать должным образом экономические отношения и все пойдет как по маслу.
На самом деле моральный климат, культурные традиции, общественный уклад и чисто человеческие отношения, будучи факторами либо вовсе внеэкономическими либо очень слабо с экономикой связанными, являются подчас весьма существенными и решающими в вопросах налаживания цивилизованной хозяйственной жизни.
В Баку семья Плескачевских снимала большую многокомнатную квартиру в новом доходном доме крупного судовладельца и домовладельца Дадашева, построенном в развивающейся тогда на восток приморской части города, в конце Меркурьевской улицы (в советские времена улица Шаумяна).
Дом был двухэтажный. В нижнем этаже, а также в огромных по площади сухих подвалах, размещались конторы и склады различных компаний. Первоначально Дадашев предполагал сдать нижний этаж бакинской таможне, именно для этого этаж и проектировался. Но поздее почему-то договоренность была расторгнута, и помещения были сданы внаем различным конторам, по-преимуществу, оптово-торговым.
На верхнем этаже находились просторные многокомнатные квартиры, также сдававшиеся внаем.
Особенностью дома являлось наличие внутреннего дворового корпуса, повторявшего прямоугольную конфигурацию корпуса основного и снабженного закрытыми переходами из каждой квартиры.
В дворовом корпусе размещались кухни, кладовые и другие подсобные помещения.
После революции в доме разместилось известное учреждение НКВД - МГБ - КГБ с большой внутренней тюрьмой, которая была построена в замкнутом пространстве двора и оборудована в подвалах.
Помню с детства, что проход по тротуару у этого печально известного дома вплоть до конца сороковых годов был запрещен. Под окнами ходил караульный, вооруженный карабином с примкнутым штыком, свистком сгонявший прохожих на другую сторону улицы, если они по незнанию пробовали нарушить строгий запрет.
Интересно сложились отношения Ивана Семеновича с домохозяином.
Алекпер Дадашев был очень богатый человек и человек весьма занятой.
С жильцами своих многочисленных домов он практически не встречался. Немалое значение имело тут и то обстоятельство, что почти все жильцы были немусульманами, а Дадашев слыл человеком старой закалки.
Исключением стал только Иван Семенович.
Каждый месяц, предупредив по телефону, Дадашев приходил к нему лично получить плату за квартиру, так как считал неуважительным посылать к деду конторщика.
Они долго сидели в кабинете, беседуя о жизни в Баку, обсуждая новости, рассказывая о семье и интересуясь здоровьем домочадцев.
При этом никаких чисто деловых вопросов у них с дедом во время этих бесед не обсуждалось, дела, связанные с деятельностью "Продамета", когда они и возникали, решались своим порядком.
Была взаимная симпатия и взаимная тяга к общению. Дед считал Дадашева, не получившего регулярного образования, человеком весьма умным, знающим и, что самое главное, глубоко порядочным.
Сенсацией среди близких знакомых Ивана Семеновича стало приглашение в гости, последовавшее от Дадашева вскоре после установления между ними доверительных отношений. Дело в том, что Дадашев жил весьма замкнуто, а «иноверцев» в его дом вообще никогда в гости не звали.
Визит прошел очень торжественно. В большом и богатом фамильном доме, украшенном на восточный вкус коврами и зеркалами и расположенном в старой части города, за крепостными стенами, и поныне называемого Крепостью, хозяин принял чету Плескачевских, представил им жену и сына, долго беседовал, всячески демонстрируя свое расположение и уважение к гостям.
Кстати, сын Дадашева Садых получил хорошее образование и стал позднее известным архитектором, нашедшим всеобщее признание в советском Азербайджане. В соавторстве с М. Усейновым он построил в Баку целый ряд зданий, определявших в свое время новое лицо столицы республики.
К сожалению, умер он рано, не дожив и до пятидесяти.
Плескачевские приехали в Баку, когда еще не успокоились волнения, возникшие в городе в связи с недавними революционными событиями и поднявшейся, в связи с неустойчивостью власти, всплеском уголовной преступности.
Власть в Баку революционные события действительно потрясли и ситуация вышла из-под контроля.
Об этих временах рассказывала мне Надежда Онуфриевна Красильникова, вдова известного бакинского миллионера Красильникова, одного из двух братьев, домовладельцев и акционеров крупых компаний.
К 1908 году обстановка в городе нормализовалась, но у бакинцев, не без оснований, еще не появилось ощущение, что они живут в безопасности. Поэтому в спальне, в тумбочке лежал заряженный браунинг, который дед брал с собой и носил в жилетном кармане, если куда-то уезжал вечером.
Дочерям было категорически запрещено даже заглядывать в тумбочку, не то что прикасаться к заряженому оружию.
Иногда дед с приятелем ездил к Волчьим воротам, что находились далеко за городом, чтобы поупражняться в стрельбе. Свою жену он тоже хотел научить на всякий случай обращаться с оружием, но та решительно воспротивилась.
Не только стрелять в человека, но и угрожать ему пистолетом она была органически не способна. Даже в случае реальной угрозы для себя лично и своих близких.
Когда я был маленьким и тетя впервые рассказала мне про пистолет, я почему-то решил, что он до сих пор храниться где-то в доме, в недоступном для детей месте. Каково было мое разочароване, когда я узнал, что еще во время революции, когда в городе установилась власть Бакинской комуны и держать оружие стало опасно, дед, не желая сдавать его официально, разобрал браунинг и выбросил по частям.
Соблюдались и другие меры предосторожности. "Продамета" располагалась в том же доме, занимая соседнюю квартиру, а также помещения на первом этаже здания. Контора сообщалась с квартирой, из спальни вела дверь прямо в рабочий кабинет деда.
Было установлено строгое правило, согласно которому в прихожей конторы на втором этаже в «присутственные часы» постоянно находился один из преданных «хозяину» и физически сильных конторских курьеров.
Но дед никогда не пользовался услугами охранников-телохранителей. Он был человеком очень уверенным в себе и отнюдь не боязливым. Недаром мама говорила, что с ним рядом можно было ничего не бояться.
Конечно, такая оценка дочерью любимого ею отца не столь уж веский аргумент, но кое о чем она все же говорит.
При этом очень многие влиятельные и богатые люди, особенно свежеиспеченные миллионеры, нажившиеся на продаже, покупке или эксплуатации нефтеносных участков, старались не выходить из дома без сопровождения телохранителя, и старые бакинцы вспоминали об этом позднее. Дед относился к наличию телохранителей с некоторой иронией.
Семью Плескачевских обслуживали горничная, повариха, а также курьеры, служившие в конторе. При дочерях находилась гувернантка-француженка.
Дед много времени отдавал службе. Но вечерами регулярно ездили в гости и сами принимали гостей, постоянно посещали концерты в Общественном собрании.
Иногда Иван Семенович играл там в карты.
В собрание ездили только на извозчике, за которым посылался курьер, хотя расстояние до здания собрания на Красноводской улице (ул. С.Вургуна, позднее в этом здании размещался Дом офицеров) было всего несколько сот метров.
Пройтись пешком в вечернее время было не принято, даже не совсем прилично при том положении, которое занимали в бакинском обществе мой дед и его семья. Такие «нормы поведения» во многом объяснялись, конечно, не столько неспокойной обстановкой в городе, сколько устоявшимися привычками, вызванными подобной обстановкой в недавнем прошлом.
Среди друзей дома особенно часто в рассказах мамы и тети упоминалось имя инженера Антонова. Это был очень интересный в общении, веселый и жизнерадостный человек, не чуждый серьезных интересов и запросов.
Детей у него не было, а жена, немного старше по годам, женщина тоже образованная и умная, отличалась удивительной красотой и умением держаться в обществе.
Антонов всегда увлекался чем-то необычным, сам и вместе с женой много путешествовал за границей. Одним из его постоянных увлечений была борьба. Обладая недюжинными физическими возможностями, Антонов несколько лет ею занимался и даже успешно участвовал в соревнованиях борцов-профессионалов в цирке, выступая в разных городах, в том числе и в Баку.
Участие его в соревнованиях было, конечно, анонимным, боролся Антонов в маске, так как статус циркового борца не был совместим с его положением и работой. Как-то раз Плескачевские ходили в цирк специально для того, чтобы посмотреть на Антонова.
Мой дед в те давние времена тоже отдал дань занятиям физической культурой, что совсем не было распространено и даже порой вызывало удивление.
Вместе с Антоновым он постоянно посещал спортивный зал известного в те времена гимнастического общества "Сокол", где проводили занятия приехавшие, в основном из Чехии, специальные инструкторы.
Мама была свидетелем того, как хорошо получались у деда прыжки через коня, как выполнял он сложные упражнения на кольцах.
Расставание с Антоновым произошло совершенно для всех неожиданно. Незадолго до начала Первой мировой войны, уехав один в свое очередное заграничное путешествие, он больше никогда домой не вернулся.
Как говорили тогда в Баку, убежал от жены в Америку. В двадцатые годы, когда в Америке побывала группа бакинских инженеров-нефтяников, Антонов, который весьма там преуспел, встречался с ними, узнавал про общих знакомых и передал привет Ивану Семеновичу.
Хорошим и добрым знакомым Плескачевских был доктор Антон Иванович Мамиконов.
Сразу после окончания Сорбонны он приехал в Баку и, ко времени появления там Плескачевских, уже многие годы имел большую врачебную практику.
В кабинете у Антона Ивановича стоял редкий по тем временам рентгеновский аппарат, но, по словам мамы, сказанным, конечно, не без сохранившегося с детства особого чувства к старому доктору, он, даже не прибегая к сложным исследованиям, безошибочно ставил диагноз и успешно лечил всю семью, и детей и взрослых.
В рассказах неизменно фигурировал случай, как бабушка, выезжая с дачи из Караклиса с неожиданно сильно заболевшим дедом, подала срочную тревожную телеграмму. В той телеграмме на имя Антона Ивановича было всего несколько слов о состоянии мужа, но доктор тут же позвонил в контору "Продамета".
"Гасан, - сказал он курьеру, - хорошо протопи ванну и пошли кого-то на вокзал с извозчиком. Барин заболел брюшным тифом и его сейчас везут домой."
Заочный диагноз полностью подтвердился, а лечение было начато немедленно и проведено энергично и успешно. Вообще никому из врачей, кроме Антона Ивановича, Плескачевские так не доверяли, а их домашний врач стал довольно быстро их добрым знакомым и постоянным гостем в семье.
Днем почти ежедневно Маруся, старшая дочь и позднее моя мама, и младшая Ангелина с гувернанткой ездили на прогулку в Губернаторский сад, расположенный между Николаевской улицей и Набережной.
Туда приезжало и приходило постоянное общество детей с боннами и гувернантками, там всегда было весело и интересно.
В начале века сад представлял собою красивый зеленый оазис в пыльном и жарком городе и обладал богатейшим набором деревьев и цветов, привезенных с разных концов света. Несколько бассейнов с фонтанами и подпорные стенки, устроенные на участках с выраженным рельефом, дорожки и аллеи, проложенные в различных направлениях, пышная зелень и красивые садовые композиции создавали невиданную в этих местах обстановку ландшафтного парка.
Я хорошо помню сад Революции моего детства, когда он еще не пришел в запустение, не был много раз переделан, став похожим на обычные бакинские сады и скверы, которых появилось немало в моем городе. И через много лет, отмеченных бурными событиями, во время которых было не до поддержания садов и парков, он выделялся своим особым неповторимым обликом.
Летом все состоятельные бакинцы покидали город, спасаясь от жары, пыли и духоты нефтяной столицы. Плескачевские ездили на кавказские курорты (Боржоми, Караклис, Железноводск, Кисловодск) и в Одессу. В Одессу ездили отдыхать по необходимости - там моей маме, еще совсем маленькой девочке, сделали радикальную и очень удачную операцию на ухе, а потом несколько лет подряд наблюдали и лечили.
Ни разу семья не побывала за границей, хотя поездка на немецкие курорты, к примеру, стоила не намного дороже, благодаря высокому и стабильному курсу рубля. Да и не в деньгах тут, конечно, было дело. Слабое здоровье бабушки Полины Андреевны каждый раз заставляло откладывать заграничный вояж.
Когда дочери подросли, Иван Семенович стал собирался вместе с ними в Египет и Палестину. Он мечтал увидеть Иерусалим и египетские древности. Планам помешала война...
Летом 1917 и 1919 года, когда поездки по дальним курортам стали фактически невозможными, а обстановка в городе была относительно спокойной, отдыхали у Каспийского моря в селении Бузовны, где нанимали дом и куда ездили на извозчике.
Примечательным местом в дореволюционном Баку стала «Нефтяная вилла» («Вилла Петролеа»), созданная бр. Нобель еще в 1880-х годах всего за два года.
Заводской район - Черный город был значительно удален от центра, поэтому довольно многочисленный инженерный и административный персонал вынужден был жить там же.
Если жилища рабочего люда располагались вблизи нефтеперегонных установок, не вызывая особых осложнений, то специалисты с семьями не желали жить в задымленной атмосфере, насыщенной вредными выбросами.
А братья Нобель были очень заинтересованы в привлечении на работу крупных инженеров и специалистов.
На службе в компании некоторое время состоял, к примеру, знаменитый инженер В.Г.Шухов, обогативший нефтяную технику несколькими известными изобретениями, сделанными им как раз в это время. Позднее Шухов прославился строительством в Москве, на Шабловке, известной металлической башни - антенны радиостанции Коминтерна, использованой впоследствии в качестве первой московской телевизионной вышки.
Итак, чтобы привлечь специалистов, именно здесь, по соседству с заводами, нефтяными резервуарами и подъездными железнодорожными путями был устроен зеленый массив площадью более 10 гектаров. На черногородскую пристань доставляли баржами плодородную землю из Ленкоранского уезда, а следующие порожняком из Астрахани в Баку нефтеналивные суда бр. Нобель стали набирать в виде балласта волжскую воду для полива.
Посадочный материал подбирался в субтропических лесах Ленкорани, в Тифлисе и Батуми, выписывался из известных питомников России и Европы. Дорожки и аллеи парка, распланированного с учетом рельефа и окружающих производственных сооружений, подводили к нескольким жилым домам с характерными для бакинской архитектуры остекленными и открытыми террасами и балконами. Обитатели «Вилла Петролеа» часто устраивали в парке гуляния и балы, на которые приглашались многочисленные гости из города. Играла музыка, горели разноцветные фонарики, развешенные на деревьях, устраивался фейерверк и подавались угощения.
Моя мама и тетя Ангелина вспоминали, как они ездили с родителями не только на такие праздники, но и просто в гости к знакомым и друзьям. Вспоминали также веселую рождественскую елку, которую традиционно устраивали на «Вилле».
Ежегодно дед ездил в Петербург отчитываться перед правлением "Продамета". В те годы ездили не часто, а так далеко и подавно. Поездка становилась событием не только в семье, но и среди многочисленных коллег, друзей и знакомых.
С утра конторский курьер на извозчике отвозил на вокзал вещи, затем на нескольких нанятых экипажах вся семья, уже налегке, вместе с приехавшими проводить отправлялась на вокзал. Там, в зале ожидания для пассажиров 1-го класса, к ним присоединялись те, кто приехал попрощаться прямо к поезду. Народу собиралось немало.
Приезжали на вокзал заранее, чуть ли не за час до отхода поезда, как было принято в те времена. Все вместе шли в буфет, где взрослые пили вино и шампанское, а дети угощались лимонадом и пирожными.
С первым звонком выходили на перрон, дед расплачивался с носильщиком, который давно уже внес вещи и ждал «барина» у вагона, прощался с каждым провожающим отдельно, целовал жену и девочек и поднимался в вагон.
Через две или три недели деда встречали. Народу было уже не так много, как при проводах, только близкие знакомые и друзья.
Каждый раз из Петербурга Иван Семенович привозил подарки, причем привозил всегда что-то необыкновенное. Необыкновенные игрушки и куклы для дочерей, необыкновенную, нарядную шляпу с перьями, самую модную, для бабушки, какую-нибудь необыкновенную безделушку.
Мама говорила, что дело тут было не только в больших финансовых возможностях и внимании отца, моего деда, к своим близким, но и в его вкусе и умении заметить по-настоящему красивую вещь, отличить ее от всего рядового.
Мама и тетя Ангелина получили вначале домашнее образование, после чего были определены в женскую гимназию. Кроме того они учились по классу фортепиано в училище Бакинского отделения Русского музыкального общества. Мама делала большие успехи в музыке, участвовала в публичных концертах, которые регулярно устраивались в Общественном собрании и в «Исмаилии». Когда собирались гости мама и тетя, а затем дед с каждой из дочерей, играли в четыре руки.
Жизнь в Баку начала века была полна самых резких контрастов.
Мама и тетя вспоминали и рассказывали мне, какие дворцы, особняки и доходные дома, раскошные магазины и торговые пассажи украшали центральные улицы, как много по-настоящему богатых людей было в городе.
Но наряду с этим - масса оборваных, грязных и голодных, просивших подаяния, мальчишки, круглый год ходившие босиком и за мелкую монету доставлявшие пудовые «зембили» (плетеные сумки) с базаров.
Трахома и даже проказа не вызывали удивления, так как были тогда довольно распространенным явлением. Подобные контрасты существовали во всей России, но здесь, в Баку, они были особенно разительны из-за восточного уклада и особого колорита, соседствующего с наступающей цивилизацией.
В семье деда всегда присутствовало чувство неудовлетворенности несправедливостью общественного устройства, которое предопределяет такие социальные контрасты.
Мама рассказывала, что ее родители считали большим грехом жить в роскоши, когда большинство испытывало столько бед и лишений. Именно поэтому, несмотря на потерю своего привилегированного положения, большого капитала в банке, наиболее ценного имущества, попросту отнятого во время реквизиций («грабь награбленное»), вся семья осталась на родине, осталась в Баку и вписалась очень быстро в новую жизнь.
В разгар революции и гражданской войны, Иван Семенович (наивный!) говорил своим дочерям, что семье его не страшны никакие общественные катаклизмы: «Мы живем своим трудом, своей головой и поэтому никогда не пропадем. Мы будем работать и счастливо жить в своей стране».
Так отвечал он и на настойчивые деловые предложения друзей и знакомых эмигрировать из России. Как и многие другие представители имущих классов и интеллигенции, он принял большевиков и Ленина за избавителей от всеобщей несправедливости.
У людей, подобных деду и бабушке, было совестливое отношение к окружавшей их жизни и не было еще исторического опыта, который они приобрели позднее, столкнувшись с новой властью. Русская культура и русская литература недаром учили их сопереживать и сострадать слабым...
Когда я читаю и слышу теперь о том, как всем хорошо и богато жилось в России до прихода к власти большевиков, я вспоминаю свидетельства моей мамы, свидетельства человека во всех отношениях благополучного в тогдашней жизни и, хотя бы поэтому, вполне беспристрастного.
Полина Андреевна, моя бабушка, была человеком глубоко и искренно верующим. Одно из ранних воспоминаний - это ее высказывания о вере и религии, которые звучали во времена моего пионерского детства весьма непривычно.
Однако, она не испытывала особых неудобств в связи с закрытием церквей, хотя Баку был городом, где закрылись в начале тридцатых буквально все православные храмы.
Вера Полины Андреевны издавна сочеталась с недоверием к церкви и ее деятелям. Она считала, что священники, погрязнув в мирских делах и в погоне за материальным благополучием, не могут ничему хорошему научить прихожан и не имеют на это морального права, а их молитвы, будучи неискренними, никогда не дойдут до Бога.
Поэтому до революции в церковь семья ходила очень редко, только по большим праздникам. Бог был внутри, и вера Полины Андреевны не нуждалась в церковной молитве.
Очень часто посещала храм в детстве только тетя Ангелина, правда не православный, а католический, который находился как раз напротив дадашевского дома, на том месте, где в советские времена построили клуб МВД. Ее брала с собой на службу полька-горничная, глубоко верующая женщина. Родители потив этого не возражали.
Не получила моя бабушка морального удовлетвоения и от посещения монастыря в Харьковской губернии, весьма известного молитвенным усердием своих монахов.
Молиться и просить Господа о возвращении здоровья своей старшей дочери Марии ездила она в этот монастырь вместе с дедом из Харькова, где останавливались проездом в Одессу.
Здесь, в Харькове, маму показывали какому-то старому и очень известному профессору, рекомендовавшему радикальную операцию на ухе и даже предлагавшему ее тут же сделать.
Но Плескачевские предпочли продолжить поездку в Одессу и довериться по рекомендации того же Антона Ивановича (мама, кстати, никогда, до конца своей жизни не называла его просто Антон Иванович, но всегда доктор Антон Иванович) молодому врачу в клинике Новороссийского университета.
Кстати, мой дед всегда больше доверял как специалистам и внимательнее прислушивался к совету молодых, если видел в них людей деловых, знающих, добросовестных.
Наверное потому, что и сам был человеком не старым, а также потому, и это главное, что чувствовал преимущества молодых в новой, стремительно меняющей свое лицо действительности.
Перед отъездом из Харькова дед с бабушкой и поехали помолиться в монастырь, оставив дочерей на попечении горничной, которую везли с собой из Баку, и тетки Ивана Семеновича, у которой остановились.
Революционные события в Баку. Семья Плескачевских[править]
Революционные события в России и распад государства кардинально изменили жизнь всех слоев населения Баку.
В 1918 году был провозглашен независимый Азербайджан. Однако, местная бакинская власть обладала большой самостоятельностью и здесь присутствовали различные политические силы.
В первой половине года преобладали большевики, которые опирались не столько на рабочие массы, сколько на пришлый солдатский элемент развалившейся Кавказской армии.
Большевики, как известно, сформировали даже бакинское правительство - Совет народных комиссаров во главе со Степаном Шаумяном.
Но в обстановке почти полной изоляции от центра, от Москвы, они смогли продержаться у власти не более трех месяцев. Да и власть эта, из-за особенностей местных условий, не стала тогда железной однопартийной диктатурой пролетариата по российскому образцу.
Однако, определенные элементы пролетарской диктатуры присутствовали и здесь.
Были национализированы банковские вклады, проводилось «уплотнение» буржуазных квартир и домов, реквизиции домашнего имущества.
Все это в полной мере коснулось и семьи Плескачевских, которые в одночасье лишились былого достатка.
Но я никогда не слышал от своих родственников каких-либо сетований по этому поводу. Они воспринимали происшедшее с ними как часть общей судьбы, общих испытаний, выпавших на долю их страны.
И всегда помнили, насколько тяжелее и трагичнее складывалась судьба многих других людей.
Летом 1918 года турецкая армия быстро приближалась к Баку. Коалиции местых политических сил, враждебных большевикам, удалось преодолеть их влияние, отстранить от власти и передать ее коалиционному правительству Центрокаспия.
В город для отражения турецкого наступления прибыл немногочисленный английский экспедиционный корпус. Внутренняя обстановка изменилась, руководители большевиков были арестованы, а позднее вывезены в Закаспийский край и там расстреляны.
Мама и тетя часто вспоминали, что очень скоро после своего появления, под давлением наступающего неприятеля англичане оставили город.
Быстро и организовано хорошо экипированные и почти не участвовавшие в настоящих боевых действиях подразделения, в том числе вызывавшие любопытство бакинской публики шотландские стрелки в клетчатых юбках и колоритные индусы в чалмах, проходили по набережной под окнами дадашевского дома и грузились на пароходы.
Сопротивление турецким войскам после ухода англичан продолжалось недолго. Бакинские власти провели всеобщую мобилизацию мужского населения.
Ушел в ополчение и дед, но в боевых действиях он не участвовал и через несколько дней вернулся домой, так как ополчение было распущено и сопротивление фактически прекращено.
Захвату города не помешал непродолжительный артиллерийский огонь, который открыла по наступающим турецким войскам батарея, входившая в состав большевистского отряда под командованием Петрова.
Отряд этот покинул фронт после прихода англичан и стоял лагерем на площади на Набережной, где гораздо позднее было построено здание музея Ленина. Отряд Петрова ожидал погрузки на пароход и отправки в советскую Астрахань. Многие жители Баку наблюдали тогда в бинокли, полевые и театральные, прямо с балконов и крыш своих домов, как турецкие цепи наступали с окружающих возвышенностей, преследуя бегущих защитников города.
Под огнем стрелявших буквально по-соседству с дадашевским домом гаубиц Петрова они откатились назад, но вскоре вновь появились на гребне холмов и начали, уже беспрепятственно, занимать городские кварталы. Артиллерия Петрова к тому времени замолчала и спешно заканчивала погрузку на пароход.
Турки железной рукой навели в городе внешний порядок. Грабителей и мародеров патрули расстреливали на месте, а для острастки повесили нескольких прямо на Парапете, соорудив виселицу в центре центральной площадки. На рынках были установлены предельные цены, нарушение которых, как и воровство, жестоко наказывалось. Все быстро поняли, что с турками шутки плохи, и в городе воцарилось непривычное для тех времен спокойствие.
После вступления в Баку турецких войск начало укрепляться национальное правительство Азербайджана.
Как известно, в начале ноября 1918 года Турция подписала перемирие с союзниками[1], что положило конец пребыванию их в Закавказье, после чего жизнь в Баку стала постепенно входить в мирную колею.
Летом 1919 года, когда Россия была охвачена войной, голодом и тифом, Плескачевские отдыхали на даче в Бузовнах. "Продамета" прекратила свое существовование, и Ивана Семеновича пригласили на службу в Городскую Думу, где он заведовал финансовыми делами.
Много лет спустя мне показывали окна его бывшего кабинета в известном всем бакинцам здании Баксовета на Коммунистической улице.
Как раз в этот период из Баку через Батум уехали в эмиграцию многие состоятельные люди.
Австриец инженер Штоппер, который был владельцем литейного завода в Черном городе, а также по совместительству консулом молодой Австрийской республики, отправил семью и собирался уезжать сам.
Штоппера связывало с Иваном Семеновичем давнее знакомство, они дружили семьями, доверяли и помогали друг другу.
Еще до революции, часто всей семьей, ездили Плескачевские в гостеприимный дом рядом с литейным заводом, где жили Штопперы. При заводе имелась конюшня, поэтому обычно за гостями посылался экипаж.
Через много лет, на закате своих дней, мама и тетя вспоминали, как хорошо, как весело бывало у Штопперов. Своих детей в доме было двое - дочь и сын, почти ровестники маме и тете, а к ним из города и с соседней «Вилла Петролиа» приезжали товарищи и подруги. Так что компания молодежи собиралась большая. Во дворе дома была устроена крокетная площадка, и любимым развлечением на долгое время стала игра в крокет.
Заигрывались допозна, а на юге темнеет рано, даже в июне в 9 часов вечера в Баку уже совершенно темно. Тогда приносили из дома керосиновую лампу, ставили ее на землю там, где нужно было бить по шару, но игры не бросали. Совсем поздно удавалось хозяевам собрать, наконец, молодежь за столом, чтобы напоить чаем. По домам разъезжались ближе к полуночи...
Штоппер уговаривал Ивана Семеновича уехать за границу, но позиция деда по поводу эмиграции оставалось неизменной. Не согласился он отпустить в Австрию вместе с семьей Штоппера и своих дочерей, чтобы Маруся и Ангелина пожили в Вене до наступления в России спокойных и мирных времен.
Штоппер проводил семью, но ему самому уехать на родину так и не удалось. Вначале удерживали консульские дела, он должен был позаботиться о репатриации бывших австро-венгерских военнопленных, некоторые из которых подолгу жили прямо на заводе и даже в его доме.
А потом, перед самым запланированным отъездом, отравившись недоброкачественной пищей, Штоппер заболел и неожиданно для всех умер. Позже по городу ходили слухи, что его отравили специально.
А через несколько лет до Баку дошла весть о том, что сын Штоппера, серьезно занявшийся альпинизмом, погиб в Альпах во время схода лавины.
Большевистская власть пришла в Баку с бронепоездами 11-й Красной армии в апреле 1920 года.
Очень скоро после установления советской власти Иван Семенович занял пост управляющего конторой «Техснаб» при «Азнефти», работал под непосредственным руководством новых организаторов нефтяной промышленности Азербайджана, известных профессиональных революционеров А.П. Серебровского, который был к тому же дипломированным инженером-технологом, и ставшего позднее начальником "Азнефти" М.В. Баринова, ранее заместителя Серебровского.
Под руководством Плескачевского на нескольких сотнях метров береговой полосы Бакинской бухты в Черном городе был создан комплекс пристаней и складских помещений - база «Техснаба», обеспечившая нефтяную промышленность всеми необходимыми машинами, механизмами, инструментами, лесом, прокатом, трубами.
Многие десятки лет база «Техснаба», преобразованная в трест «Азтехснабнефть», расширяя и совершенствуя свое хозяйство, служила нефтяникам Азербайджана.
Восстановлению и развитию громадного полуразвалившегося хозяйства нефтедобычи и нефтепереработки в Баку препятствовала в двадцатые годы нехватка самого необходимого.
Потребовались организаторские способности и умение работать, которыми отличался Иван Семенович, чтобы наладить дело с нужным размахом.
По вызову Серебровского, который с 1926 года работал в Москве заместителем председателя ВСНХ СССР, дед несколько раз выезжал в столицу и по несколько месяцев работал там в аппарате ВСНХ и Союзнефти, так как квалифицированных руководителей в центральных учреждений нехватало.
И каждый раз он отказывался от переезда в столицу на постоянную работу, возвращаясь домой. Обстановка и рабочая атмосфера в Москве ему не нравилась.
Умер дед совсем нестарым человеком, в возрасте 54-х лет от заражения крови, после того, как в больнице им.Семашко ему сделали несложную, но неудачную операцию по удалению гланд. Случилось это в 1931 году, а несколькими годами позже и Серебровский, и Баринов, и почти все партийные, а также многие беспартийные руководители и ведущие специалисты «Азнефти» пали, как говорили позднее, жертвами необоснованных репрессий.
Памятная коллективная фотография руководства «Азнефти» середины двадцатых годов, где изображен и Иван Семенович, стала выглядеть своеобразным документом, подтверждающим массовый и тотальный характер сталинских репрессий. Почти все изображенные на ней бесследно исчезли.
Из этих людей я познакомился позднее с руководителем энергохозяйства «Азнефти» инженером- электриком Сизовым, с которым мы оказались соседями по дому. Сизов, один из немногих, выжил и вернулся в Баку еще до всеобщей реабилитации, что было для тех времен счастливым исключением.
Вскоре после прихода большевиков, как я уже упоминал, в дадашевском доме разместилась ЧК.
Жильцов выселили, и дед, служивший к тому времени в "Азтехснабнефти", получил просторную ведомственную квартиру в новом коттедже.
С десяток таких 2-х и 3-х квартирных домов по американскому образцу и по проекту известных архитекторов бр. Весниных построила тогда «Азнефть» для своих ведущих специалистов. Дома располагались в самом начале Черного города, сразу за Черногородским железнодорожным мостом.
Соседство нефтеперегонных заводов почти не ощущалось, а до центра было сравнительно недалеко.
Плескачевские остались довольны своей новой квартирой, так как на старом месте они жили не так просторно и удобно, как раньше.
«Буржуазные» квартиры повсеместно уплотнялись и часть комнат уже давно занимали временные жильцы.
Мама вспоминала, что после прихода Красной Армии, у них некоторое время жил комиссар бронепоезда. Когда в доме поймали вора, пытавшегося украсть белье, сушившееся во дворе на веревках, комиссар выскочил из своей комнаты на шум, поднятый соседями, с маузером в руке и хотел вора пристрелить на месте. Еле-еле его от этого удержали...
Прожив десять лет в Черном городе, буквально за несколько недель до смерти Ивана Семеновича, Плескачевские переехали на новую квартиру.
Кооперативный дом «Бурильщик» построили в самом центре города, на улице Мясникова (быв. Милютинской).
Конструктивистская простота светлых оштукатуренных фасадов, характерных для новой архитектуры, контрастировала с потемневшим от времени белокаменным рустом дореволюционных домов этих плотно застроенных уютных кварталов.
Просторные прекрасно отделанные четырехкомнатные квартиры заняли в основном специалисты «Азнефти».
Соседом Плескачевских был, например, инженер М. А. Капелюшников, знаменитый изобретатель турбобура, позднее академик. Как раз тогда Капелюшников ездил в командировку в Америку, где ему устроили восторженную встречу американские нефтяники - оказалось, турбобур широко и повсеместно применялся там при проходке глубинных нефтяных скважин.
Строительство квартиры обошлось деду немалых денег, но он не хотел дальше жить в ведомственной черногородской квартире, которую пришлось бы оставить, уйди он с работы в «Азнефти».
Но произошло это почти через десять лет, а в начале 1920-ых вместе с НЭПом жизнь входила в нормальную колею.
Казалось, начинали исполняться слова деда, сказанные в разгар гражданской войны, о том, что при любой власти своим трудом, своей головой, семья непременно будут жить в своей стране хорошо и счастливо.
Даже всегдашняя тяга Ивана Семеновича к дальним поездкам и путешествиям, не реализованная ранее из-за болезней жены и возраста дочерей, смогла в какой-то мере воплотиться в жизнь. Стало вполне возможно и доступно с комфортом проехать по железной дороге, остановиться в гостинице, пообедать в ресторане. За два лета моя мама объездила с отцом кавказское побережье, была в Крыму, а также, уже вместе с Ангелиной, во многих местах родного Донбасса.
Маме запомнились дальние пешие походы в окрестностях Сочи и Нового Афона. В те годы железной дороги там не было, сообщение осуществлялось только морским путем. Но многочисленные железнодорожные тоннели были построенны еще до революции и во многих местах уже существовали.
Совершая переходы по безлюдному в те годы побережью, они часто пользовались этими тоннелями, почти всегда почему-то заполненными водой. Вода стояла где по колено, где по грудь, а где приходилось пробираться вплавь, держа одежду над головой. И все это в темноте, когда только где-то далеко-далеко виднелся слабый свет на выходе тоннеля либо у шахты колодца.
Но, как повторяла мама, с отцом ей нигде и ни при каких обстоятельствах не могло быть страшно.
Черногородский дом Плескачевских заполнился в те годы многочисленными гостями. Теперь это были больше молодые люди, сверстники дочерей.
По рассказам, которые я слышал неоднократно, можно представить тогдашнюю атмосферу этого дома, чуждого политических ветров крепнувшего с каждым днем советского строя, полного интереса к литературе и науке, театру и музыке, утверждавшего на личных примерах своих обитателей нормы порядочности и человеческой солидарности.
Именно это - сама обстановка, интересы и разговоры собиравшихся там, их времяпрепровождение, привлекали молодежь «с запросами», отвергая одновременно людей случайных, людей «иного круга».
При новых коттеджах в Черном городе построили асфальтированные теннисные корты. Вокруг этих кортов собиралось много молодежи, мама и тетя тоже стали заниматься теннисом.
Регулярно устраивались теннисные соревнования, причем из участников этого самодеятельного, если так можно выразиться, спортивного движения при дворовых кортах вышли потом самые сильные бакинские теннисисты.
Летом все вместе ездили на пляж, чаще всего на Зых, загорали и купались, играли в мяч и дурачились. Любимым занятием стала фотография.
Громоздкий деревянный фотоаппарат на штативе, которым еще до революции пользовался дед, был на всех один, но это не создавало неудобств в дружной компании.
Зимой ходили в театры и на концерты, благо тогда, в двадцатые годы, бакинская оперная труппа была на высоте, а в филармонии, которая заняла помещение летнего Общественного собрания в саду Революции (это ошибочное мнение - филармония заняла это помещение лишь к концу 1930-х гг., а в конце 1920-х - начале 1930-х гг. там находился Дворец физкультуры и Закавказский физкультурный институт - прим. ред.), гастролировали лучшие исполнители.
Мама часто вспоминала Левушку Ландау, который был в их компании тогда самым младшим, но уже учился в университете. Вскоре он уехал из Баку, закончил университет в Москве, став еще до войны известным ученым.
А вот Завен Мелик-Тангиев никуда из Баку не уехал, здесь учился, здесь работал, отсюда ушел на фронт, сюда вернулся после войны, здесь и скончался. Он не стал Нобелевским лауреатом, подобно Л. Д. Ландау, но в Баку это был очень известный человек, талантливый инженер-строитель и организатор производства, занимавший пост главного инженера треста «Азморнефтестрой».
Когда в конце пятидесятых годов Мелик-Тангиев получил Ленинскую премию за освоение морских месторождений Каспия, о чем в те годы много писали и говорили, мама и тетя решили почему-то послать ему поздравительную телеграмму, хотя виделись с ним довольно часто.
На другой день Завен Иванович ответил на поздравление, ответил тоже телеграммой, причем очень длинной. Он написал, что все его успехи в жизни связаны с семьей Плескачевских, так как без влияния и настроя, которые исходили оттуда, без тех идеалов и ценностей, которые он оттуда вынес, не стал бы тем, кем ему удалось стать.
Поэтому именно это поздравление, из всех им полученных, самое для него дорогое и ценное.
Помню, как маму тронула такая оценка их семьи, помню, как опять вспоминала своего отца, говорила о том, как умел он создать в семье и вокруг нее совершенно особую обстановку, «микроклимат», как сказали бы в наши дни.
Завсегдатаями черногородской квартиры стали сестры Маргуловы и их брат Иван. Отца Маргуловых, к тому времени уже умершего, еще в дореволюционные времена хорошо знал дед.
Маргулов служил управляющим на нефтяном промысле Манташева. Известен был он и тем, что рабочие во время одной из забастовок в знак протеста и нежелания более терпеть притеснения начальства вывезли его с территории промысла на тачке.
Показательно, что мама, расказывая мне об этом много лет спустя, отнеслась к действиям рабочих без всякого возмущения. Это было не в традициях семьи - осуждать жест отчаяния людей, тяжким трудом еле-еле сводящих концы с концами.
Старшая из Маргуловых, Тереза, училась в те годы в Индустриальном институте, успешно его закончила и уехала в аспирантуру в Москву. Еще до войны, работая под непосредственным руководством академика М.В.Кирпичева, она успешно защитила диссертацию.
Рассказывали, что после защиты старый академик сам подавал Терезе пальто, а это было совсем не в его правилах.
Тереза стала известным ученым-теплотехником, много лет заведовала кафедрой атомной энегетики в МЭИ.
Близкой подругой тети и мамы долгие годы была Ида Маргулова. Перед самой войной она с матерью также перебралась в Москву, а до этого много лет проработала врачом-инфекционистом в бакинской железнодорожной больнице.
Судьба же Вани Маргулова, пользовавшегося особой симпатией и расположением моей мамы, сложилась трагично. Студентом был он арестован и погиб в заключении.
За несколько лет до войны судьбу Вани разделил другой завсегдатай черногородского дома - Степа Шищенко.
Ему не было и тридцати, когда он стал профессором, блестяще читал лекции по теоретической механике в Индустриальном институте. О нем говорили как о человеке и ученом с большим будущем.
Но в 1937-ом его забрали и он тоже исчез, и тоже навсегда.
Помню, как старший брат Степы, Роман Иванович, инженер-нефтяник, к тому времени тоже профессор, заведующий кафедрой бурения в том же Индустриальном институте, навсегда уезжая из Баку в середине пятидесятых, пришел к нам прощаться. «До сих пор не могу понять, как мы с вами уцелели, Маруся», -сказал он маме.
Ваня Маргулов был большим другом и постоянным партнером по теннису Степы Шкипарева, будущего мужа Ангелины, завоевавшего ее сердце и отодвинувшего другого претендента - Завена.
Появление Степы в Черном городе связано с приходом туда большой группы молодежи, увлекшейся новой тогда для Баку спортивной игрой.
Эти люди надолго вошли в постоянный круг общения мамы и тети. Почти все они погибли в результате репрессий и позднее, на войне.
Из них я знал и помню известного в Баку Даню Данилова, инженера и музыканта, многократного довоенного чемпиона Азербайджана по теннису. Он не пострадал во время массовых репрессий, не был на фронте, остался жив, а после войны бросил инженерные занятия и до конца жизни преподавал теорию музыки в консерватории, выступал с лекциями перед началом филармонических концертов. Несмотря на шепелявый голос и отнюдь не эстрадную внешность, слушать его всегда было интересно.
Несколько слов о дяде Степе, которого я хорошо помню. Призванный на военную службу в первые недели войны, он служил при военном аэродроме в Кишлах, на окраине Баку, а в начале 1942 года, когда мне только что исполнилось пять лет, ушел на фронт.
Степа погиб через полтора года, осенью 1943-го, под Оршей, старшим лейтенантом 274 Ярцевской стрелковой дивизии. Орден Отечественной войны, который был вручен тете Ангелине в военкомате сразу после его гибели, сохранился у меня до сегодняшнего дня.
Степан Иванович Шкипарев был старшим сыном потомственного рыбака-помора, выходца из Архангельской губернии, который приехал в Баку задолго до революции.
Занялся Иван Шкипарев вначале рыболовным промыслом, через какое-то время стал владельцем куринского рыбного промысла, а затем - хозяином самого крупного и самого дорогого рыбного магазина в центре города.
Магазин располагался на Ольгинской улице и держал на прилавках только самый свежий товар. Все покупатели, пользующиеся услугами магазина, а были это люди обеспеченные, хорошо знали, что все нераспроданные за день товары с прилавков снимались и отправлялись в другие магазины.
Утром на прилавках лежала уже свежая, только что доставленная с рыбного промысла каспийская рыба.
Многие годы после революции в этом помещении сохранялся «фирменный» рыбный магазин, а Степин отец как известный специалист по рыбному делу до самой смерти в середине двадцатых годов служил консультантом в том самом рыбопромышленном объединении "Азрыба", которому его бывший магазин теперь принадлежал.
Семья Шкипаревых жила на Ольгинской, в двухэтажном доме (в том же, где располагался прежний магазин Шкипарева - прим. ред.), занимавшем целый квартал в самом начале этой улицы, выходя одним из своих фасадов на Набережную.
Первый этаж был занят лавками и конторами, второй являлся жилым.
Старые бакинцы помнят, наверное, кафе-мороженое на первом этаже этого дома по Ольгинской улице и сберкассу на самом углу Набережной.
После революции квартиры на втором этаже «уплотнили», но за Шкипаревыми оставили несколько комнат и особенно не стеснили, если сравнивать их с другими бакинскими семьями.
Происхождение Степы сделало его на многие годы так называемым «лишенцем». Только в 1930 году советская власть разрешила ему участвовать в выборах, и он получил право поступить в высшее учебное заведение.
А до этого Степа работал на нефтяных промыслах Биби-Эйбата, вначале десятником на стройке, а затем помощником известного в то время в Баку слепого инженера П.Н.Потоцкого.
Потоцкий еще до революции руководил засыпкой участка Бакинской (Биби-Эйбатской - прим. ред.) бухты, позднее названной Бухтой Ильича, которая примыкала к нефтяным площадям Биби-Эйбата. После 1923 года работы возобновились, и Потоцкий был назначен техническим руководителей конторы по засыпке.
После окончания работ здесь пробурили большое количество высокодебитных нефтяных скважин. Именно тогда было положено начало освоению месторождений Каспийского моря.
До самой войны, окончив в тридцатые годы вечерний экономический факультет Индустриального института, работал Степа плановиком в тресте «Сталиннефть». (Так стали называться нефтяные промыслы Баилова и Биби-Эйбата.)
Не прекращал он и своих занятий теннисом. После женитьбы они с тетей Ангелиной каждый отпуск, чаще всего летом, много ездили по стране, побывали в Москве и Ленинграде, плавали по Волге, отдыхали на Черноморском побережье. Детей у них не было, оба работали и неплохо по тем временам зарабатывали, так что редкая в то время возможность хорошо и интересно отдыхать у них была.
Часто бывали Степа с Ангелиной и на теннисных соревнованиях в Москве, Саратове, Тбилиси, Батуми. Степа участвовал в составе азербайджанской команды практически во всех крупных всесоюзных соревнованиях.
Стал он перед самой войной и чемпионом Азербайджана. Правда, Даню Данилова переиграть Степа так и не смог. Но Данилов заканчивал консерваторию, совмещая учебу с работой, и бросил занятия теннисом.
Через много лет после окончания войны на фасаде дворца спорта «Динамо» открыли мемориальную доску с перечнем ведущих спортсменов Азербайджана, погибших на фронте. Среди них было и имя Степана Шкипарева.
Дядя Степа был человеком очень сильным и душевно, и физически, человеком спокойным и волевым. Он на редкость мягко и благорасположено относился к своим близким, к друзьям и просто к знакомым людям, никогда не повышал голоса, всегда был готов оказать содействие и помощь.
Он преданно и нежно любил Ангелину. Провожая Степу на фронт, моя бабушка и его теща Полина Андреевна, которая прожила с ним под одной крышей без единой размолвки больше десяти лет, говорила: «Я не могу просить вас о том, чтобы вы не выполнили своего долга, спрятались за спину товарища. Но знайте, что Ангелиночка и все мы вас очень ждем. Поэтому постарайтесь вернуться». Как и многие люди своего времени бабушка была очень цельным человеком, она не мыслила себе, что защищая ее страну, ее дом от вражеского нашествия кто-то посторонний, но не она, должен терять своих родных и близких.
С такими же напутствиями, уверен, проводила бы она «на позицию» и собственного сына, пошла бы и сама, если бы пришлось.
Когда Степа погиб, бабушка ни разу не сказала, что его убили немцы, хотя в те годы люди в разговорах называли неприятеля только так, а не фашисты, враги или, к примеру, немецко-фашистские захватчики. Был одно время в ходу даже лозунг, брошенный И.Эренбургом, - «Убей немца!»
Не искушенная в понимании тонкостей интернациаонализма, чуждая политических оценок и анализов, она, однако, говорила, что Степу убил Гитлер, считала его персонально виновным за все происходящее, воплощением зла, антихристом.
А я надолго запомнил Степины фронтовые письма, украшенные «военными» рисунками танков, кораблей и самолетов, которые он писал для меня печатными буквами, чтобы я смог прочесть их сам.
И еще одна судьба, еще одна история долгой и преданной дружбы.
Цицилия Андреевна Бауман, а для меня просто тетя Шура, знакома была с Плескачевскими с первых лет революции.
Родители Шуры, немцы-колонисты, предки которых издавна жили в Закавказье, оказались после переезда в Баку жильцами дадашевского дома. В результате «уплотнения» и они получили комнату в одной из квартир.
Тетя Шура не имела особого образования и рано начала работать скромным конторским служащим. Стремление к интересному и содержательному общению, желание войти в круг людей с высокими нравственными критериями, для которых основной ценностью в жизни является ее духовное содержание, сблизили тетю Шуру с семьей Плескачевских.
Многие годы близкая дружба связывала ее с мамой и тетей.
В начале тридцатых годов она вышла замуж за Мику, Моисея Моисеевича, вдовца с ребенком. Мика происходил из семьи субботников, религиозной секты, которая еще в позапрошлом веке обосновалась на Кавказе, но связи с сектой давно не поддерживал и вообще религиозностью не отличался.
Тетя Шура стала для Бориса, сына Мики, настоящей матерью, очень его любила и сильно переживала из-за его нежелания нормально учиться. Несколько лет подряд перед войной вся семья тети Шуры много путешествовала по стране вместе со Степой и Ангелиной. Они вообще часто и подолгу бывали вместе, хорошо и весело проводили время.
Моя мама, занятая семьей и моим воспитанием, виделась с ними в те годы не так часто, хотя тетя Шура всегда оставалась ее близкой и любимой подругой.
Помню, как тетя Шура с Микой и Борисом, Степой и Ангелиной пришли в гости на мой день рождения. 8 января 1941 года, в доме еще стояла новогодняя елка, которую убирали обычно только после моего дня рождения.
Гости принесли с собой патефон, бывший в те годы большой редкостью. И зазвучало популярное тогда: «А ну-ка песню нам пропой веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер...» Все было так необычайно радостно, празднично и весело в тот незабываемый день! До сих пор его помню...
Через несколько месяцев Борис ушел на срочную службу в Красную Армию и назад не вернулся. Через год после окончания войны младшую сестру Мики, Дину, разыскала молодая еще женщина и рассказала ей о Борисе. Борис встретил войну недалеко от Белостока и через несколько недель, выходя из окружения, попал в плен.
С женщиной, разыскавшей Дину, медицинской сестрой, которая тогда тоже была в плену, он познакомился за несколько дней до побега, организованного группой красноармейцев и командиров.
Борис просил ее запомнить несложный адрес и сообщить о себе либо разыскать его по этому адресу после войны.
Запомнил и он ее довоенный адрес. Больше эта женщина Бориса нигде и никогда не видела и ничего не слышала о нем.
Вот такая романтическая и трагическая история...
Однако, тетя Шура не верила и не поверила в гибель своего Бориса. Во время «хрущевской оттепели» она его особенно усиленно разыскивала через Красный крест, надеясь, что Борис оказался где-то на Западе и не давал о себе знать, чтобы не подвести родственников, а сейчас не может их найти, не имея точного адреса.
За месяц или два до начала войны, не сильно поранив палец на руке и проболев совсем недолго, неожиданно умер от заражения крови Мика. Неожиданно, потому что было ему тогда чуть больше сорока и он никогда и ничем не болел, даже не простуживался.
А в первые месяцы войны тетя Шура вместе со старухой матерью в 24 часа была выслана из Баку в Казахстан. Она, как и все высланные немцы, прошла через трудармию, испытала нечеловеческие лишения и трудности.
Много лет спустя тетя Шура рассказала нам, что такое была эта трудармия, ничем не отличающаяся от лагеря. Те же бараки, та же колючая проволока и вооруженный конвой, та же каторожная работа, тот же голод и те же лишения.
Она уже не надеялась остаться в живых, еле двигалась, пораженная дистрофией и цынгой, когда потребовалась телефонистка на коммутатор. Какой-то начальствующий чин, не потерявший еще чувства сострадания к людям, посадил туда тетю Шуру.
Освободившись от тяжелой работы, в тепле, она постепенно стала приходить в себя... После окончания войны немцев из трудармии отпустили, и местом ссылки тете Шуре определили город Акмолинск (позднее Целиноград).
Мама ее умерла в годы войны, оставшись одна, без всякой поддержки, беспомощная и больная. И тетя Шура зажила в Акмолинске одна, поступив бухгалтером на завод и получив комнату в бараке.
Моя мама все эти трудные годы переписывалась с ней, несмотря на предосудительность такой переписки в жестокие военные и послевоенные времена, посылала посылки.
Только после смерти Сталина, когда высланным немцам разрешили на время отпуска уезжать с места поселения, тетя Шура приехала на две недели в Баку и мы вновь увиделись. Но это уже рассказ о совсем других временах...
Кавказская семья Абросимовых[править]
Мама моя, старшая дочь Ивана Семеновича - Мария, вышла замуж на несколько лет позже своей младшей сестры.
Ее муж - Лев Николаевич Абросимов - стал бакинцем, пройдя уже достаточно долгий и нелегкий жизненный путь.
Хотя никогда не сетовал на то, что жизнь его складывалась не так или с какими-то особыми трудностями и неприятностями. Он вообще никогда ни на что и ни на кого не жаловался, принимая окружающее как должное и естественное.
Родным городом моего отца был Тифлис. Родился он в 1892 году в семье чиновника, надворного советника Николая Евгеньевича Абросимова, сына крепостного крестьянина Воронежской губернии, отданного помещиком в солдаты.
Мой прадед, прослужил в армии, как тогда полагалось, все 20 лет, причем большую часть этого срока воевал на Кавказе с горцами и участвовал в турецкой компании.
Закончив службу, Евгений Абросимов, по существовавшим тогда законам, переставал считаться крепостным.
При этом кавказские ветераны получали земельные наделы, и отслуживший свое немолодой по тем понятиям отставной солдат стал помещиком-однодворцем в селе Лагодехи, что под Тифлисом.
Евгений Абросимов съездил на родину, привез оттуда молодую жену и до конца жизни хозяйствовал в Лагодехах.
В 1860 году в семье появился единственный наследник - сын Николай. Тринадцатилетним мальчиком отвезли Николая в Новочеркасск и отдали на учебу в военную фельдшерскую школу.
Принимали туда в первую очередь детей низших чинов для подготовки военных фельдшеров, которые относились в те времена к гражданским чиновникам военного ведомства, то есть были военнослужащими, имеющими гражданские чины.
Сразу после окончания школы побывал Николай на русско-турецкой войне 1877-78 гг., участвовал в качестве фельдшера в боевых операциях на Кавказском фронте.
Русские войска во второй раз штурмовали тогда и взяли крепость Карс, которая вместе с обширной территорией Карсской области надолго вошла в состав Российской империи.
Помню старую фотографию, на которой изображен был полевой перевязочный пункт. Носилки с ранеными в тени кустов на горной террасе и группа усатых военных медиков на переднем плане, в белых халатах поверх шинелей, в длинных до пят клеенчатых передниках.
Среди них - мой дед, совсем молодой, напряженно и устало смотрящий в объектив... Прослужив обязательные после окончания фельдшерской школы шесть лет и получив первый классный чин коллежского регистратора, он подал в отставку и был принят на службу чиновником Тифлисского губернского правления.
Причина такого шага молодого человека была в том, что он начал серьезно интересоваться взглядами Льва Толстого и посчитал для себя неприемлимым продолжать службу по военному ведомству. Позднее из губернского правления дед перешел служить в Казенную палату.
Однако, главной целью, главным занятием в жизни Николая Евгеньевича стала на многие годы общественная деятельность.
Он был активным членом Тифлисского общества попечения о детях, попечителем по защите детей, председателем попечительского совета детского приюта. Стараниями деда приют был расширен, там создали, в частности, столярную, а затем и переплетную мастерскую, которой он руководил непосредственно. В мастерской воспитанники учились переплетному мастерству и под руководством опытного мастера выполняли на высоком уровне заказные работы.
Раз в неделю мой папа, будучи гимназистом, ходил туда работать и учиться переплетать книги, о чем через много лет часто и с удовольствием вспоминал. Мой дед считал, что общение с приютскими детьми и «трудовое воспитание» необходимы и полезны для его сына-гимназиста.
Николай Евгеньевич в течение многих лет пристально следил за развитием педагогических взглядов, изучал состояние дел по воспитанию детей, особенно детей неимущих классов. Свои взгляды по этим вопросам он развивал в статьях и докладах, с которыми регулярно выступал.
Опубликовав статью в журнале «Русское Богатство», редактором которого был в то время В. Короленко, дед долгое время переписывался с известным поэтом и педагогом Оболенским, тесно связанным с этим журналом.
В переписке, целиком посвященной проблемам воспитания, Оболенский писал и о взглядах Л.Толстого, с которым был знаком лично.
Помню, я спросил отца, почему же дед не написал самому Толстому, которого он почитал всю жизнь, не задал вопросов лично ему. И услышал в ответ, что дед не считал для себя удобным беспокоить Льва Николаевича, полагал просто нескромным расчитывать на внимание со стороны великого писателя.
В Тифлисе дед женился на Елизавете Анастасьевне Бахчаловой, происходившей из семьи греков-рудопромышленников.
С XVIII века род Бахчаловых обосновался на Кавказе, на Алавердском заводе. Как известно, грузинский царт Ираклий II пригласил греков, преследуемых в Османской империи, для разработки серебрянных месторождений.
Серебро предназначалось для чеканки монет, и приезжие специалисты были у царя Ираклия в почете.
Позднее знающие и предприимчивые переселенцы обнаружили медные залежи Алавердского месторождения, взялись за его разработку и основали Алавердский завод.
Медные слитки на мулах доставляли в Тифлис на продажу. В XIX веке, когда Закавказье отошло к России, Алавердский завод стал посессионным.
Как известно, на основе посессионного права в России владели горными заводами частные лица и компании, которые получали от правительства определенную поддержку, в том числе - в полную собственность окружающие земли и леса.
Анастас Бахчалов был совладельцем рудников и медеплавильных печей Алавердского завода. Позднее, в начале XX века, греки-рудопромышленники уступили права на Алавердский завод французской компании (нужно было совершенствовать и расширять производство на новой основе, а это сделать самим оказалось невозможным), став пайщиками этой самой компании.
Совсем молодым человеком участвовал Бахчалов в Кавказской войне с горцами, был юнкером Тенгинского полка и получил Георгиевский крест за штурм Гуниба. Длительное время служил он под непосредственным началом М. Т. Лорис-Меликова, того самого, который позднее, в конце царствования Александра II, стал министром внутренних дел, самым близким к императору сановником империи и широко известен своей «диктатурой сердца».
Молодой волонтер Бахчалов был замечен своим командиром, потому что оказался, как выяснилось, соседом и земляком по родовому гнезду Лорис-Меликова - селу Лори, граничевшему с землями Алавердского завода. А для кавказцев такое соседство значит многое...
При штурме Гуниба, последней твердыни Шамиля, в августе 1859 года молодой Анастас состоял порученцем при Лорис-Меликове.
По семейному преданию именно мой прадед первый принес с поля боя в ставку главнокомандующего долгожданную весть о том, что Гуниб взят, а Шамиль пленен.
Предание сохранило и подробности события. Князь Барятинский, главнокомандующий и наместник Кавказа, с мрачным видом сидел на барабане, а офицеры штаба, свита и адьютанты стояли рядом и поодаль.
Гуниб и подступы к нему были закрыты туманом и пороховым дымом, донесения поступали неутешительные, потери росли, а мюриды и не думали сдаваться. Накануне вопрос о штурме был решен положительно вопреки мнению многих командиров, которые утверждали, что во избежании жертв среди русских войск следует исключить активные действия, а Гунибом можно овладеть с помощью долгой и планомерной осады.
Барятинский, который поддержал тогда сторонников решительных действий, был сегодня не в духе и нервничал. Он только слабо махнул рукой, разрешая прискакавшему юнкеру обратиться к своему полковому командиру, находившемуся рядом с командующим. Но услышав доклад, князь вскочил, свита оживилась.
Лорис-Меликов снял с себя Георгиевский крест и тут же, при всех расцеловал и наградил Бахчалова. В этот же день главнокомандующий отдал знаменитый приказ: «Гуниб взят. Шамиль в плену. Поздравляю кавказскую армию.»
Всю жизнь, до последних своих дней, постоянно носил Анастас Бахчалов форму Тенгинского полка - черкеску с газырями (вспоминается известный портрет Лермонтова в похожей форме, он был, правда намного раньше, поручиком того же Тенгинского полка), на которой выделялся крест «за Гуниб».
Так он и был сфотографирован уже глубоким стариком во дворе алавердского дома в окружении многочисленных детей, родственников и внуков.
После выхода в отставку, многие годы Бахчалов безвыездно жил на Алавердском заводе, занимался своим хозяйством, работал и принимал участие в качестве акционера в делах медных рудников.
Пять дочерей выросло в семье Бахчаловых. И среди них - моя бабушка Елизавета Анастасьевна. Каждое лето на несколько месяцев дочери с детьми собирались под отцовской крышей. Приезжали ненадолго мужья, занятые службой. Случалось, что за столом к обеду собиралось до сотни родственников и гостей.
Сыновей у Бахчалова не было, поэтому потомки, выпорхнувшие из этого гнезда и живущие ныне по всему свету, носят другие, самые разные фамилии - Гавриловы, Абросимовы, Карпинские, Лебедевы, Лукины, Бандюженко, Антадзе...
Как-то я поинтересовался у папы, строгим ли дедом был старик Бахчалов, не досаждала ли его орда внуков, которые на целое лето заполняли алавердский дом. Папа моему вопросу очень удивился.
Подумав, он ответил, что никогда и никому его дед замечаний не делал, никого не наказывал, его не смущали и ему не мешали шумные игры и забавы, но, с другой стороны, дети, которые деда совершенно не боялись, не могли себе даже представить, как это можно его в чем-то не послушать, не выполнить с радостью и готовностью любую его просьбу.
Анастасий Феофелактович был весьма известным и уважаемым человеком в округе. За честь считалось, например, пригласить его в качестве крестного, и у него было много крестных в Алавердах. Крестил он моего отца - своего внука, как, впрочем, всех своих многочисленных внуков и внучек. Крестил и уроженца тех мест Анастаса Ивановича Микояна. Старик Микоян был плотником и его частенько нанимали для работ по дому. Свое имя его сын, будущий известный большевик и советский государственный деятель, получил в честь крестного.
Уклад жизни большого дома в Алавердах был совершенно патриархальным. Греческая община владела значительными земельными угодьями. На этих землях паслись многочисленные стада, но мяса, молока или шерсти никто и никогда не продавал.
У Бахчаловых был пастух, который со своей семьей следил за стадом. Он приносил к столу молоко, масло и сыр, приносил мясо, а также овечью шерсть, из которой женщины пряли и вязали теплые вещи для семейного потребления. Никто не интересовался сколько продукции давало стадо.
Работники, которые возделывали огороды и сад, обеспечивали семью овощами, кукурузным зерном для приготовления мамалыги и лепешек, фруктами к столу и для заготовок на зиму.
И опять-таки, никто не думал требовать с них отчета, либо запрашивать большего, помимо того, что по традиции съедалось и заготавливалось. Все остальное оставалось в пользу семей работников, потреблялось ими, продавалось либо обменивалось.
Из моих бахчаловских предков очень хорошо и близко знал я Александру Федоровну Лукину. Она была дочерью Елены Анастасьевны, в замужестве Гавриловой.
Муж Елены, горный инженер Гаврилов, человек образованный, деловой и богатый, служил на высоких должностях в Баку и Тифлисе, был долгое время начальником Кавказского горного округа (это ошибочное утверждение: горный инженер статский советник Фёдор Ефремович Гаврилов не был начальником Кавказского горного округа, он был окружным инженером (т.е. начальником) 2-го горного округа (г. Баку), входящего в состав Кавказского горного округа - прим. ред.).
После революции Гавриловы с незамужними дочерьми эмигрировали через Стамбул во Францию.
Тетя Саша и ее младший брат Сергей Федорович с родителями не уехали.
Позднее Гаврилов купил дом в Антибе, на Лазурном берегу, который, кстати, принадлежал когда-то Мопассану.
Одна из дочерей Гаврилова вышла во Франции замуж за эмигранта из России, тоже кавказца, Антадзе.
Первое время молодая семья испытывала во Франции большие материальные затруднения. Подспорьем стало для Антадзе изготовление и продажа мацони. И сегодня потомки Антадзе живут в Париже. Мой сын Дима, переехав в Париж в 1984 году, разыскал Антадзе и вместе с Кристиной, своей женой, был у них в гостях в грузинском ресторане, который они тогда держали.
Дочерям своим Гаврилов стремился дать самое лучшее по тем временам образование. Возможности для этого у него были.
Тетя Саша, например, прошла полный курс наук на Санкт-Петербургских женских политехнических курсах. Однако, дипломного проекта не защитила и звания инженера-электрика не получила, так как еще перед Первой мировой войной вышла замуж за молодого преуспевающего юриста Лукина.
В тридцатых годах семья эта жила в Баку, в одном доме с нами по Красноармейской ул. 17, поэтому и в раннем детстве, и позже я часто виделся и с тетей Сашей, и с ее детьми Юрой и Ирой.
Юра и Ира до середины тридцатых годов жили во Франции, куда уехали вместе со своей бабушкой. Во Франции получили они среднее образование и вернулись в Баку, к родителям. Тяжело пришлось Лукиным на родине. Мужа и брата тети Саши репрессировали, причем мужа, который работал юристконсультом Баксовета, расстреляли. Семья лишилась квартиры и вынуждена была уехать из Баку в Тбилиси, где появилась возможность жить у родственников...
Мой отец был в семье Абросимовых вторым ребенком, старшим сыном, которого назвали Львом в честь Толстого. Он стал полным тезкой Толстого - Львом Николаевичем.

Старшая сестра папы, Женя, закончила гимназию с золотой медалью и первой уехала из родительского дома учиться в Москву, на медицинский факультет Высших женских курсов. Уже в начале Первой мировой войны тетя Женя завершила свое образование, стала врачом и начала работать в крупной по тем временам Сабунчинской больнице, что располагалась в нефтепромысловом рабочем районе Баку.
Промысла и больница принадлежали тогда Товариществу бр. Нобель, которое возвело каменные больничные корпуса (это неверные сведения: больница в Сабунчах была построена и содержалось на средства Съезда бакинских нефтепромышленников, в фонд которого нефтепромышленники (в том числе и Нобель) отчисляли определённый процент от доходов - прим. ред.) недалеко от прекрасно спланированного и тогда же построенного компанией [Т-ва бр. Нобель] рабочего поселка, состоящего из двухэтажных благоустроенных домов с отдельными небольшими квартирами.
На фоне убогих жилищ и казарм, в которых ютился разноплеменный рабочий люд промысловых площадей Сабунчей и Сураханов, Нобелевский поселок с больницей производил сильное впечатление.
Даже много лет спустя, уже в сороковые годы прошлого века, поселок, помню, выглядел неплохо.
Здесь, в Сабунчах, уже после революции, вышла тетя Женя замуж за учителя-словесника Николая Степановича Плещунова, позднее доцента Бакинского университета. Она проработала в Сабунчах многие годы врачом-педиатором и большинство жителей в округе либо сами были когда-то ее пациентами, либо лечили у нее своих детей.
Случайно, в бакинском пригородном поезде (поезда эти называли «сабунчинкой») мне пришлось в пятидесятые годы услышать беседу двух незнакомых молодых женщин, которые говорили между собой о здоровье детей и сокрушались, что Евгения Николаевна не работает уже ни в больнице, ни в амбулатории и некому теперь по-настоящему заботиться об их детях.
Они, как я понял, сами были в детстве ее пациентами и сказали о ней много всяких хороших слов. Продолжая разговор, они сошли на очередной остановке...
Николай Евгеньевич скончался в Тифлисе в 1918 году от брюшного тифа. После смерти деда в Сабунчи, к тете Жене, переехала моя бабушка.
Также после революции сюда приехал и папин младший брат Сережа, который закончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета и всю жизнь проработал в сабунчинской школе учителем физики.
Так постепенно переезжали Абросимовы из Тифлиса в Баку. Из всей семьи осталась в Тифлисе только младшая, тетя Паша, которая к тому времени получила агрономическое образование и работала с мужем-зоотехником на конном заводе в окрестностях города.
Но в конце тридцатых годов и тетя Паша с сыном и свекром перебралась в Баку, после того как ее муж Константин Степанович Авдеев был в Тбилиси арестован. Через несколько лет он умер в лагере. Сохранилось свидетельство о смерти, выписанное на его имя при реабилитации, где указано на воспаление легких как на причину смерти, а в графе «место смерти» стоит многозначительный прочерк.
Трагично закончилась и жизнь их сына, моего двоюродного брата Игоря. После окончания Военно-морского училища им. Фрунзе в Ленинграде он служил некоторое время на крейсерах Северного флота.
Игорь был что называется «сорви голова», темпераментом отличался мало сказать неспокойным - просто взрывчатым, характером был неуживчив, с начальством вечно конфликтовал.
Еще курсантом, помню, он подрался на улице с военным патрулем, после чего был исключен из Каспийского военно-морского училища в Баку, но затем как-то сумел продолжить учебу в Ленинграде.
Долго на военно-морском флоте продержаться Игорь, конечно, не смог и был уволен, не прослужив и трех лет. Игорь вернулся в Баку, вновь, как и прежде, стал жить с матерью и дедом, а работать пошел на рыболовный флот, став капитаном сейнера. В 1954 году, в конце зимы, он погиб в плавании. Во время сильного шторма на Каспии ночью Игоря смыло за борт.
Ивана Степановича Авдеева, свекра тети Паши, мы хоронили через несколько лет. Он запомнился мне добродушным, ласковым и очень общительным старичком, которого все родственники называли «за глаза» дедушкой.
Иван Степанович рано лишился отца, служившего в невысоких офицерских чинах, и учился на казенный счет в кадетском корпусе, а затем в известном Алексеевском военном училище в Москве.
Закончил училище по 1-му разряду, и как один из лучших выпущен был в артиллерию. Служил на Кавказе, в последние годы перед отставкой был начальником артиллерии в крепости Карс.
Уже во время Первой мировой войны, по возрасту и в связи с болезнью, Иван Степанович вышел в отставку и поселился в Тифлисе.
Возраст, а также уход из армии спасли его, и дедушка являл собою уникальный в СССР случай сохранившего свою жизнь и свободу полковника старой царской армии.
Но вернемся к рассказу о моем папе.
Закончив в Тифлисе 2-ю мужскую гимназию, он в 1911 году поступил на учебу в Томский технологический институт, на механическое отделение.
Недавно открытый Томский технологический выбран был по нескольким соображениям. Дело в том, что выпускников кавказских гимназий принимали туда в первую очередь и без экзаменов, а поездка на экзамены в Харьков или Петербург, где тоже были технологические институты, требовала больших и затруднительных для многодетной семьи расходов, не гарантируя при этом поступления.
Вот почему папа поехал учиться в далекую и холодную для кавказца Сибирь. Проучившись в Томске два года, он перевелся в Харьковский технологический, поближе к дому, а учебу закончил уже после революции, в 1921 году.
Занятия в институте шли трудно и продолжались долго, так как приходилось делать длительные перерывы и работать. Ведь семья не могла материально помогать всем детям, а отец был к тому же старшим сыном, который считал естественным позаботиться о себе сам. Чаще всего работал он в паровозном депо на Закавказской железной дороге и ездил даже на паровозе помощником машиниста.
Кроме того, почти постоянно совмещал учебу с репетиторством, причем давал уроки отстающим гимназистам по латинскому языку, что было непривычным в среде студентов-технологов.
Поступив в институт, отец впервые выехал за пределы Кавказа, увидел Россию. Во время зимних каникул он ездил со студенческой экскурсией в Москву и Петербург, посетил и осмотрел Кремль и Третьяковскую галерею, Русский музей и Эрмитаж. Столицы произвели на него сильное впечатление, особенно Петербург.
Во время учебы в Харькове папа был особенно дружен со своими бывшими одноклассниками, старыми гимназическими товарищами, которые также учились в Харькове. Нимсадзе и Розенфельд сразу после окончания гимназии поступили на медицинский факультет университета, а Вячеслав Николаевич Иванов учился на историко-филологическом факультете. Дружба эта прошла через всю их жизнь, хотя трое жили до конца своих дней в Тифлисе, а папа - в Баку, хотя годы были непростые и многие близкие товарищи легко теряли друг друга.
Самым способным, упорным и трудолюбивым из всех четверых по общему утверждению был Женя Розенфельд. Для него, еврея, непросто было поступить в казенную гимназию, преодолев установленную процентную норму. Еще сложнее стало поступить и успешно закончить медицинский факультет университета. Недаром еврейская молодежь из состоятельных семей уезжала на учебу в Европу. Но для небогатых родителей Жени это было не по силам, и ему приходилось расчитывать только на собственные возможности, способности и трудолюбие.
Обычный срок обучения в Технологическом институте составлял в те годы от пяти до семи лет. Студенты-технологи получали широкое инженерное образование и могли после окончания работать в самых различных областях. Кроме общих курсов по математике, механике, физике, черчению, сопротивлению материалов, деталям машин и т.п., технологи-механики серьезно и подробно изучали паровые котлы и машины, двигатели внутреннего сгорания, гидравлику и гидравлические машины, предметы, связанные с технологией металлов и металлообрабатывающими станками, строительное искусство и даже архитектуру. Большое внимание уделялось работе в лабораториях и мастерских, выполнению многочисленных и сложных курсовых проектов, а также главного проекта.
Студенческая жизнь после революции 1905 года и вплоть до Февральской революции протекала в русских институтах и университетах сравнительно спокойной, нигде не было слышно ни о каких более-менее значительных студенческих выступлениях.
Среди профессоров и студентов крепло мнение, что во имя культуры молодежь должна вернуться к науке, серьезно приняться за научные занятия, что студенческая аудитория должна быть не очагом революции, а мастерской познания истины и создания идеалов, способных спасти страну от надвигающегося одичания.
За все студенческие годы на глазах у отца только раз, в 1915 году, состоялась большая студенческая демонстрация в Харькове. Даже не демонстрация, а проводы студентов в армию. То ли ввиду военной необходимости, то ли для того, чтобы удалить из студенческой среды потенциально неблагонадежный элемент, власти мобилизовали большую группу харьковских студентов.
Почти все направлялись в школу прапорщиков.
В день проводов на вокзале и привокзальной площади собрался весь студенческий Харьков, где в университете, технологическом институте, ветеринарном институте, на высших женских курсах и в женском медицинском институте училось несколько тысяч человек.
После отхода поезда студенты и курсистки не разошлись, а двинулись к центру, заполнили Соборную площадь. Появились ораторы, зазвучали антиправительственные речи. Разгоняли демонстрацию? Нет, вспоминал папа. Конные полицейские, осторожно продвигаясь сквозь расступавшуюся толпу, негромко и миролюбиво уговаривали собравшихся: «Разойдитесь, господа. Просим разойтись. Велено расходиться» На полицейских особого внимания не обращали, неприязни тоже не выражали. Постепенно собравшиеся начали расходиться. На этом все закончилось.
Папа вспоминал, что в те годы в среде студенчества преобладало желание учиться, получить образование, овладеть наукой и специальностью. Студенческая молодежь связывала свои планы на будущее с успешным окончанием учебного завеленеия, а не с борьбой и победой революции.
В этом было отличие этой генерации студентов от своих предшественников. Такая характеристика относилась в особенности к студентам инженерных институтов, где учиться было несравненно труднее, а в будущем всех ожидала интересная и высокооплачиваемая работа.
Растущая русская промышленность ощущала большой недостаток в квалифицированных специалистах и молодых инженеров ожидали интересные предложения.
Первое время после революции отец по-прежнему продолжал заниматься в институте. Вскоре в Харькове установилась советская власть, наступили тревожные времена, но учиться, сдавать экзамены и зачеты было все же возможно.
В июне 1919 года, после тяжелых боев на Северном Кавказе и в Донбассе, в город вошла Добровольческая армия под командованием Май-Маевского.
К этому времени, то есть после занятия Харькова и развертывания стремительного наступления на Полтаву - Екатеринослав, состав армии вырос до 26 тыс. человек.
Не столько по своей численности, сколько по традициям и боевому духу, выучке и вооружению, организованности и дисциплине это была основная составляющая Вооруженных сил Юга России (ВСЮР), которыми командовал, как известно, Деникин.
Тогда, в июне 1919-го, в состав Добрармии вступили многие харьковские студенты. И мой отец надел солдатскую форму с трехцветным кантом вольноопределяющегося по краю погон.
По студенческой предметной книжке видно, что еще 10 мая, за месяц до ухода в армию, он защитил проект парового котла, после чего почти на два года прервал свою учебу.
Отца направили в железнодорожный батальон, который наступал на Екатеринослав, а затем входил в составе отдельной группы войск под командованием Шиллинга. Группа действовала против Красной армии, а также петлюровских и атаманских банд на огромных просторах правобережного Днепра и Новороссии.
Боевые операции времен гражданской войны отличались высокой маневренностью и отсутствием сплошной линии фронта, причем передвижения войск и боевые столкновения чаще всего происходили с максимальным использованием железнодорожных магистралей, в непосредственной от них близости. Поэтому железнодорожные части несли повышенную нагрузку.
Осенью 1919 года Добрармия имела наибольший успех. Развивая наступление на Москву, она захватила Воронеж, Курск и Орел. Однако, в ноябре Красная армия, переломив ситуацию, нанесла ответный удар и перешла в решительное контрнаступление.
Через несколько недель были потеряны почти все плоды многомесячных боев, оставлена Полтава и Харьков. Добрармия вместе с другими соединениями ВСЮР отходила к Ростову и Новороссийску.
Части группы войск Шиллинга, потеряв связь с основными силами и подвергаясь непрерывным ударам превосходящих сил красных, отступили к Одессе, а специально выделенный корпус под командованием Слащева, в составе которого находился и батальон, где служил мой отец, прикрыл Северную Таврию и Крым.
К концу декабря корпус Слащева отошел за перешейки и в течение нескольких месяцев успешно охранял Крым - последнее убежище белых на юге России. Штаб находился в Джанкое, там же стояли эшелоны железнодорожного батальона. Зима выдалась для этих мест непривычно холодной, морозы стояли за 20 градусов, бои не затихали, однако все усилия советских войск проникнуть в Крым успеха не имели.
В начале 1920-го отец заболел сыпным тифом и попал в севастопольский военно-морской госпиталь. Госпиталь был переполнен, персонала не хватало, смертность от тифа была очень высокой. Отца в бессознательном состоянии положили на соломенный матрац в коридоре. Здесь его случайно заметил и узнал земляк и товарищ по гимназии, который за год до революции досрочно, по правилам военного времени закончил медицинский факультет Харьковского университета и служил в госпитале военным врачом. Он перенес отца в ординаторскую и много дней и ночей, пока не миновал кризис, выхаживал его сам, своими руками, чем фактически спас от верной гибели.
После разгрома Белого движения далеко не все военнослужащие, находившиеся в Крыму, даже офицеры, решились на эвакуацию. Многие остались. Среди оставшихся был и мой отец. Приход красных он встретил в джанкойских казарменных бараках вместе с солдатами железнодорожного батальона и других частей, которые разоружились, сняли погоны и не захотели уходить в Севастополь для посадки на суда.
Покинуть казармы и куда-то уходить самостоятельно было опасно, на дорогах стояли заставы, везде устраивались облавы и проверки. Оставалось только ждать, сидя на месте. Расчет оказался на этот раз верным. Большевики обошлись с оставшимися в Джанкое солдатами совсем неплохо. Они даже не были объявлены пленными, а просто автоматически призваны на службу в Красную Армию и поставлены на довольствие.
Несколько месяцев отец работал на ремонте и восстановлении железнодорожных путей в Крыму, а затем вместе с другими был благополучно отпущен домой.
Звание инженера-технолога много значило для моего отца, и он решил поэтому вернуться в Харьков, несмотря на то, что там слишком хорошо знали, что он добровольно пошел служить в Белую армию.
Но папа решил досдать экзамены и зачеты и диплом свой все же получить. Так оно в конце концов и произошло, но не сразу.
Тут же по приезде Харьков в начале 1921 года папа был арестован и помещен в концлагерь. Режим в лагере не был слишком суровым.
Находился концлагерь в центре города, в каком-то общественном здании, наскоро приспособленном под нужды карательного учреждения.
Допускались передачи, которые приносили друзья и товарищи, еще до конца не запуганные и не скрывавшие своего знакомства с репрессированным.
Компроментирующего материала в ЧК не набралось, и отца не отправили, как некоторых других, в страшные северные лагеря, откуда практически не возвращались, а через несколько месяцев отпустили.
Но теперь отец стал гораздо предусмотрительнее. Завершив за три-четыре месяца сдачу экзаменов и защитив в сентябре главный проект по железнодорожному водоснабжению, он срочно и навсегда уехал из Харькова, скрыл свое пребывание в Белой армии и тем сохранил себе жизнь во время сталинских репрессий.
В служебных анкетах он неизменно записывал, что в 1919 - 1921 гг. работал в Харькове, в автомастерских.
Никто ни о чем не узнал и даже не догадался. Знали только близкие родственники и несколько старых друзей, которые не предали и, несмотря на царившее тогда всеобщее доносительство, никуда не сообщили.
Отец был человеком неразговорчивым, о себе мало и редко что рассказывал, поэтому, наверное, ему легко было промолчать, когда другие должны были что-то сказать, что-то придумать, навлекая, порой, подозрения, смущаясь от вопросов настырных слушателей. И неизбежно проговаривались, невольно сообщая «подозрительные» детали.
Даже тогда, когда обо всем об этом можно было рассказывать, не опасаясь, отец по привычке молчал. Незадолго до его смерти, где-то в середине семидесятых, я его что называется «вычислил».
Я обратил внимание, что папа, который по его словам в армии никогда не служил, знал многое о военной службе.
А как-то он с увлечением рассказал при мне (что само по себе было удивительно для всех, папу хорошо знавших), как будучи несколько месяцев в Москве, на курсах повышения квалификации, в конце двадцатых смотрел во МХАТе знаменитый спектакль «Дни Турбиных» по пьесе Булгакова.
При этом по тому, как он говорил, мне стало понятно, что офицеры на сцене были ему близки не только как сверстники и люди его круга.
Сопоставляя позднее некоторые факты отцовской биографии, я пришел к полной уверенности, что он, 27-ми летний харьковский студент, просто не мог не служить в армии, причем именно у белых. Приехав в очередной раз в отпуск в Баку, я сказал папе о своих выводах и услышал в ответ рассказ о том незабываемом времени его жизни.
Задумываясь над тем, как отнеслась к революции и новой власти семья Абросимовых и сравнивая это отношение с тем, которое сформировалось у Плескачевских, можно увидеть обстоятельства, очень характерные для того непростого времени.
Абросимовы новой власти не приняли, во всяком случае, молодое поколение, активно включилось в борьбу с ней.
Не только папа, но и его младший брат Николай добровольно примкнули к Белому движению.
При этом Коля ушел на Северный Кавказ, к Корнилову, в самом начале 1918 года шестнадцатилетним гимназистом, примкнув в Тифлисе к отряду офицеров Нижегородского драгунского полка, который традиционно квартировал в их городе. Там, на Северном Кавказе, он вскоре и погиб.
Плескачевские, напротив, не без настороженности и сомнений новую власть приняли, надеясь на лучшую, более счастливую жизнь для всех в будущем.
Тем более показательно, что обе эти семьи только по чисто внешним признакам принадлежали к одному общественному слою.
На самом деле, положение многодетного провинциального чиновника, стремившегося на свои скромные средства дать детям приличное образование и ради этого отказывавшего себе во всем, и по-настоящему богатого, преуспевающего промышленного деятеля отличались разительно.
Однако, непосредственные экономические и социальные интересы не являлись чем-то абсолютным, определяющим поведение человека.
Как известно, политические настроения общества и отдельных людей зависели от множества самых разных и не всегда чисто утилитарных причин...
Первые годы после гражданской войны отец жил в родном Тифлисе, где работал инженером для технических занятий в мастерских Закавказской железной дороги.
В 1924 году, поработав недолго пом. начальника службы тяги на ст. Шаропань, что недалеко от Тифлиса, папа перевелся начальником технического отдела в бакинские мастерские Закавказской железной дороги.
С тех пор он жил и работал в Баку, вначале, недолго, на железной дороге, а затем многие годы, до выхода на пенсию, в нефтяной промышленности.
Во второй половине тридцатых годов, не будучи членом партии, отец занимал должность главного инженера и исполнял обязанности управляющего крупной проектной организации - треста "Азнефтепроект".
Работать в те годы было очень непросто. Любой просчет, любая ошибка в проекте, несоблюдение сроков могли повлечь за собой стандартные обвинения во вредительстве.
После войны, когда принадлежность к партии стала обязательной не только для руководителя любого учреждения или предприятия, но и для более мелкого начальника, папа работал там же, в "Гипроазнефти" (так стал называться "Азнефтепроект"), в должности главного инженера проекта.
Под его руководством проходила вся довоенная реконструкция нефтеперегонных заводов Баку и, отчасти, Грозного, внедрение там новой технологии, строительство новых, современных предприятий.
"Азнефтепроект" занимался также проектированием жилых и общественных зданий в заводских и промысловых районах, привлекая к работе ведущих столичных архитекторов.
Несколько лет папа работал совместно с братьями Весниными, которые выполнили удачные типовые проекты жилых домов для промысловых поселков в районе Баку, а также известные в свое время проекты рабочих клубов.
Здания и сейчас, вероятно, существуют, но состояние их, вид фасадов и интерьеров после ремонтов и перестроек еще в советское время оставляли желать лучшего.
Несмотря на официальные гонения, направленные против конструктивизма, и господствовавшие позднее в самых широких кругах "украшательские" архитектурные вкусы, папа навсегда сохранил пристрастие к передовым исканиям зодчих 20-ых – начала 30-ых годов.
В период всеобщего восхищения восстановленным киевским Крещатиком, где фасады домов напоминали разукрашенный торт, он указывал мне на здание Харьковского Госпрома, как на настоящий образец подлинно современной архитектуры. Тесное общение с Весниными не прошло для него зря...
В конце войны и в послевоенные годы отец занимался восстановлением и строительством мощностей на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе.
Тогдашний краснодарский директор, некто Малунцев, по достоинству оценил деловые качества моего отца.
Несмотря на предпенсионный возраст и беспартийность, директор представил папу высоким местным партийным руководителям и согласовал с ними, а также с министерством в Москве, назначение его в качестве главного инженера этого крупного завода.
Заканчивался строительством дом, где мы должны были жить, оговаривались детали. Но тут решительно воспротивилась мама. Она не захотела на пороге старости уезжать из Баку, где прошла вся ее жизнь, не захотела оставлять своих друзей и знакомых, своих учеников. Переезд в Краснодар не состоялся.
Я родился в Баку[править]
Я родился в Баку в 1937 году, в самом начале того самого года, который навсегда остался в нашей исторической памяти символом жестокости сталинской большевистской диктатуры.
Однако, всего лишь условным символом, потому что и до и после этого страшного года машина репрессий работала на полных оборотах.
Мое появление на свет состоялось в родильном отделении больницы Каспара, что находилась совсем недалеко, в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Так как с такси в то время было трудновато, меня не привезли, а принесли домой из больницы прямо на руках, завернутым в одеяло.
Ответственную миссию взяла на себя тетя Шура, мамина подруга, которая об этом потом часто всем напоминала.
Баку моего раннего детства, то есть город военных и первых послевоенных лет, сильно отличался от города, в котором прошли детство и молодые годы мамы, от города, куда в начале двадцатых навсегда переехал папа.
Новое общественное устройство и стремительный технический прогресс изменили облик Баку.
В центре, на незастроенных площадках, а также на месте некоторых снесенных малоэтажных ветхих строений успели построить за два десятилетия советской власти целый ряд общественных зданий и жилых домов, которые подчеркнули масштаб и характер этого города.
К началу войны уже существовали такие знакомые многим поколениям бакинцев здания, как бело-розовый кинотеатр «Художественный» (позднее названный именем Низами) и расположенный напротив дом аналогичной архитектуры, где наряду с жилыми квартирами, помещались магазины и различные учреждения, жилой дом «Монолит» на Коммунистической улице, конструктивистские здания банка и дома печати, перестроенное здание музея Низами.
Руководители республики все предвоенные годы заботились о благоустройстве своей столицы, о внешнем облике улиц и площадей, о создании подобающего «фасада» социалистического города. Благодаря широкому озеленению, а также повсеместному внедрению асфальтобетонных покрытий мостовых и тротуаров, центр города удалось сильно облагородить и украсить.
Большие изменения произошли и на бывших окраинах.
В северной части города, на плато над застроенным ранее амфитеатром, который окружает Бакинскую бухту, в конце 20-ых - начале 30-ых годов появился поселок Арменикенд.
Это было впечатляющее по своему характеру и объемам массовое строительство.
За короткий срок возвели жилой массив, спроектированный в едином современном стиле, воплотившем в себе самые передовые для того времени идеи функциональной архитектуры и градостроительства.
Строгие трех- и четырехэтажные гладко оштукатуренные дома, фасады которых оживляли лишь сплошные остекления лестничных клеток, несложные рисунки оконных проемов и простые балконные ограждения, сгруппировались в хорошо распланированные кварталы с просторными озелененными территориями.
Расположенный в непосредственной близости от традиционного городского ядра и связанный с ним трамвайными линиями, поселок Арменикенд быстро стал одним из основных городских районов.
Дальние городские поселки, которые слились с городом гораздо позже Арменикенда, как например, поселок Монтина и поселок Степана Разина, также проектировались и строились в это же время и с таким же размахом.
Как и повсеместно, жилищный кризис в Баку был жесточайший, построенное жилье было каплей в море, не решавшей сложнейшей социальной проблемы растущего города.
Только большие начальники имели в те времена отдельные квартиры, а большинство счастливчиков, что вселялись в новые дома, жили в так называемых «коммуналках», общих квартирах, по две и по три семьи вместе.
Получали в те годы, как, впрочем, и гораздо позже, не квартиры, а комнаты.
Все это само собой подразумевалось, поэтому пропагандистские репортажи о широком строительстве и улучшении жилищных условий трудящихся, публикуемые на страницах газет и журналов, никого не обманывали.
У нас было по тем временам прекрасное жилье.
Еще до женитьбы мой папа, как в свое время и Иван Семенович, отказывая себе во многом, построил кооперативную квартиру.
Четырехэтажный дом кооператива «Нефтяник» расположился в самом центре города, на Красноармейской улице N17. (Позднее Красноармейская, ранее Красноводская, называна улицей Самеда Вургуна.)
По сравнению с «Бурильщиком», где жили Плескачевские, наш дом выглядел гораздо скромнее.
Квартиры трехкомнатные, подсобные помещения не такие просторные, качество внутренней отделки, особенно в ванне, кухне и коридоре, совершенно иное.
Денежные взносы в «Нефтянике» были поменьше, а жильцы, соответственно, люди в Баку не такие известные.
Но это и спасло позднее наш кооператив. В середине тридцатых, как раз во время массовых арестов, власти объявили, что кредит, выданный на строительство кооперативов, должен быть возвращен в годичный срок. В противном случае дома переходят в собственность Баксовета.
В доме, где жили в то время бабушка и Ангелина со Степой, арестовали к тому времени очень многих.
В большинстве квартир проживала либо осиротевшая и потерявшая основного кормильца семья, либо даже совершенно посторонние люди.
Ведь известно, что репрессии в промышленности касались в первую очередь крупных руководителей и специалистов, которые и составляли основную часть пайщиков «Бурильщика».
В доме же, где жила наша семья, пострадала только около четверти семей. Поэтому, когда встал вопрос о срочном возвращении кредитов, наш кооператив с этим делом справился, а вот дом, где жили Плескачевские, перешел в собственность государства.
Незавидная участь постигла и все остальные бакинские кооперативные дома. Помнится, что ко времени войны и в первые послевоенные годы в большом городе сохранилось только два кооператива - наш и еще один, где-то в Арменикенде. Переход же дома в собственность государства означал в те времена «уплотнение» и превращение квартир в обычные для тех лет «коммуналки».
Хочется вспомнить один существенный момент, касающийся внешнего облика моего родного города. Известно, что архитектура, это не только изображение дома на планшете проектировщика. Архитектура это еще и его воплощение в камне, бетоне, дереве, это качество работ, особенно отделочных, уровень и характер окружающего благоустройства, это содержание и текущий ремонт дома, уже заселенного.
Но о каком внешнем облике могла идти речь, если почти повсеместно на балконах строились разномастные защитные деревянные навесы и остекленные перегородки, что позволяло в условиях сравнительно мягкой и непродолжительной зимы как-то расширить полезную площадь переселенной сверх всяких мер квартиры, если балконы из-за отсутствия вспомогательных помещений попросту захламлялись хозяйственными вещами?
Не стоит даже говорить о качестве и состоянии дверей, окон, покрытий, а также подъездов, дворов и окружающих территорий...
Самые передовые архитектурные идеи превращались в пародию сразу же при их воплощении, либо через какое-то время после возведения дома или его основательного ремонта.
Поэтому и Арменикенд, и поселок Монтина выглядели весьма непрезентабельно, несмотря на интересные замыслы таких известных архитекторов как Иваницкий или бр.Веснины.
Поэтому, несмотря на теоретически высокие достоинства бакинских архитектурных ландшафтов, как новых, так и старых, мы не считали, что живем в окружении, достойном внимания.
К тому же, в 30-ые, 40-ые и 50-ые годы архитектурное наследие конструктивизма подвергалось уничтожительной критике.
Такая же критика обрушивалась на архитектурное наследие конца XIX и начала XX века, нашедшего свое яркое и самобытное отражение в облике давно сложившихся городских кварталов.
Небрежно именуемая эклектикой, архитектура этого периода олицетворяла собой якобы разложение и кризис буржуазного строя.
В годы тоталитарного единомыслия все это также не способствовало формированию объективных и правильных критериев и оценок.
Жизнь в нефтяной столице Советского Союза в тридцатых годах проходила, конечно, не просто.
Но все понимается в сравнении. По воспоминаниям родителей и по следам былого, увиденным мною в более поздние годы, в Баку довоенном было немало хороших магазинов, заполненных товаром, работали неплохие рестораны, а в пригородах - новые фабрики-кухни, куда по вечерам ходили поужинать, посидеть и просто выпить пива.
На приморском бульваре до позднего часа играла музыка и гуляла нарядная публика, в кинотеатрах шли новые фильмы...
Недаром уже через несколько лет то, что было «до войны», вспоминалось всеми как неожиданно ушедшая счастливая и радостная жизнь, которая вернется после победы, когда все опять соберуться в «шесть часов вечера после войны».
Плохие, а у многих просто ужасные квартирные условия, хроническое безденежье, убогий и скудный быт, тяжелая «ударная» сверхурочная работа по выполнению сталинских пятилеток, все это забылось либо отошло на второй план. В памяти осталось только радостное и хорошее. И я помню, с какой неподдельной тоской об ушедшем вспоминали тогда люди свои предвоенные годы...
При этом, в очень многих семьях предвоенные годы были наполнены еще и самыми трагическими переживаниями, связанными с репрессиями «большого террора».
Мама рассказала как-то, что до войны, в печально знаменитом 1937 году, когда я только - только родился, они c папой первые дни каждого месяца ожидали по ночам незваных гостей, ожидали, что папу арестуют и уведут.
В Баку в то время основная масса арестов происходила почему-то в начале месяца. Вероятно, в соответствии с неким графиком места в камерах освобождали к этому сроку от тех, кто был взят раньше, отправляя людей на этап или на уничтожение, а свободные места ждали новых жертв.
Дом на улице Шаумяна, быв. Меркурьевской, где проходило безоблачное мамино детство, внушал бакинцам чувство страха, потому что все знали, что туда, во внутреннюю тюрьму, доставляют арестованных.
Вторым таким местом являлась Баиловская тюрьма, но неким вещественным и реально обозримым символом, с которым и тогда, и позднее связывались репрессии, было все таки здание НКВД.
Однажды, в одну из таких тревожных весенних ночей, уже под утро, только что задремав, мои родители одновременно проснулись от резкого звонка в дверь. Встав и одевшись, не сомневаясь в том, кто стоит снаружи, папа, не отпирая, спросил кто там.
Ответа не последовало, после чего, помедлив, он все же открыл. В парадной никого не было. Что это был за звонок?
Галлюцинация, которая появилась одновременно у обоих или, как предположила потом мама, загулявший сосед с верхнего этажа, возвращаясь под утро домой и проходя мимо нашей двери, нажал на кнопку звонка?
Рассказ этот я навсегда запомнил во всех деталях, потому что почувствовал, в какой обстановке жили тогда многие бакинцы.
В первые военные месяцы отец побывал все же в том самом доме на улице Шаумяна.
Его неожиданно вызвали туда по телефону, с работы, и объявили, что он является свидетелем по делу инженера Епифанова, бывшего сотрудника «Азнефтепроекта», арестованного за полгода до этого.
После недолгого ожидания отца проводили в комнату, где заседали трое судей в военной форме, а в углу, за барьером, рядом с вооруженными конвоирами сидел похудевший и сильно изменившийся Епифанов.
Председательствующий спросил, что может сказать отец о вредительской деятельности подсудимого. И получил короткий ответ, что ничего такого за многие годы совместной работы за Епифановым не замечалось, все технические вопросы решались им квалифицированно и добросовестно.
Судья выдержал паузу и еще раз, вероятно для записи в протокол, попросил повторить сказанное, что отец и сделал. Через несколько дней Епифанов как ни в чем не бывало появился на своем рабочем месте.
Никто, в том числе и отец, ни о чем его не спрашивал и он, естественно, ни о чем не рассказывал.
С тех пор Епифанов по товарищески сблизился с отцом, довольно часто заходил к нам по вечерам, и один, и с женой. Они с папой были на ты, но как было тогда принято между всеми близкими товарищами отца по работе, называли друг друга по имени и отчеству.
Умер Епифанов еще до того, как обо всем происшедшем можно было открыто говорить. Поэтому папа так никогда и не узнал, в связи с чем было устроено это странное по тем временам судебное заседание, когда люди обычно бесследно исчезали навсегда.
И почему его неожиданно вызвали свидетелем прямо в суд, хотя во время следствия не вызывали и вопросов насчет Епифанова не задавали.
Известно только, что сидя полгода во внутренней тюрьме, тот ничего из обвинений не подтвердил и ничего не подписал.
Раньше я часто задавался вопросом, как это люди жили в те времена, как они выдерживали каждодневное ожидание ареста, как могли при этом радоваться жизни и смеяться, воспитывать детей, заниматься работой и повседневными делами.
Но потом понял, что жизнь всегда достаточно сурова и тревожна, что и в спокойные, казалось, времена, хватает причин для самых серьезных переживаний, которые человек научился преодолевать. Да и само сознание конечности земного существования наполняет наши мысли, порой, по-настоящему трагичным содержанием.
И все это преодолевается человеком, так уже устроена его психика. Позднее, читая воспоминания известного профессора-паталогоанатома Я. Рапопорта, который попал в лапы МГБ по известному «делу врачей», я нашел подтверждение этим своим наблюдениям.
Рапопорт пишет, что дыхание Лубянки в конце концов выветривалось у его современников из эмоциональной сферы и выплывало в памяти только как memento mori - помни о смерти.
Намного позже и совершенно случайно мне довелось увидеть эту самую внутреннюю тюрьму в самом центре нашего города.
В начале шестидесятых во времена уже совершенно «вегетарианские», в небольшом отсеке здания КГБ разместили республиканский Комитет партгосконтроля.
Организация эта была довольно авторитетная, которая действовала под непосредственным руководством ЦК КПСС и контролировала выполнение различных решений высших органов.
Однако, вторжение даже такой солидной конторы в «большой дом» возможно стало только после «хрущевской оттепели», когда чекисты потеряли свое прежнее безграничное могущество.
По случаю проверки бакинских вузов, которую организовал тогда союзный партгосконтроль, к нам приехала небольшая комиссия, в помощь которой назначили несколько специалистов, работавших в системе республиканской Академии наук. Этим центр демонстрировал лояльность по отношению к республике и показывал, что целью работы комиссии являлось не раскапывание каких-то неприятных фактов и ошибок с последующим наказанием виновных, а изучение вопроса на месте для практической помощи вузам в их работе.
Перед началом проверки всех пригласили в партгосконтроль.
Я пришел первым, и местный инспектор, которому было поручено комиссии содействовать, принял меня, поговорил о чем-то малозначительном и вышел, оставив меня в кабинете одного в ожидании, когда все соберуться и можно будет начать работу.
Зарешеченное окно небольшого кабинета выходило во внутренний двор, но створка была прикрыта, а стекла с тех еще времен были закрашены белой краской.
Я подошел к окну, открыл створку и, выглянув наружу, увидел то, что и ожидал увидеть.
Просторный прямоугольный двор перегораживала на две неравные части высокая стена с колючей проволокой поверху, с воротами и вахтой.
Над воротами имелась караульная вышка, а сбоку располагалась проходная. Пространство за стеной занимало темное оштукатуренное многоэтажное здание (здание НКВД-МГБ-КГБ, также, как и внутренней тюрьмы, было трехэтажным - прим. ред.) внутренней тюрьмы, с улицы совершенно незаметное.
На окнах, как и во всех советских тюрьмах, были установлены деревянные козырьки, окрашенные темнозеленой краской. Но я хорошо знал, что это была только надводная часть айсберга. Помещения внутренней тюрьмы размещались также в двух подземных этажах подвалов, расположенных подо всем бывшим дадашевским домом.
Когда началась война, мне было четыре с половиной.
Однако, буквально с первого дня войны я помню все, что со мною происходило. В ночь, когда началась война, я долго не спал и лежал в своей кроватке с боковой сеткой, через которую я уже давно перелезал, но которая еще не была убрана и защищала меня во сне от падения на пол.
В ту ночь у меня поднялась температура, я заболевал ветрянкой, моим первым и единственным в детстве инфекционным заболеванием.
Окна нашей квартиры закрывались с наступлением темноты складывающимися деревянными ставнями, поэтому когда по улице проезжали машины, узкие полоски света, пробивавшиеся через щели ставен, двигались от одного края потолка к другому, вначале медленно, потом очень быстро, а затем опять медленно.
Тихо лежа в темноте и с трудом засыпая, я смотрел, как обычно, на бег этих световых полос, сопоровождаемых приближающимся и удаляющимся шумом мотора. А утром, когда я проснулся, в спальню вошла мама, открыла ставни, отчего комната сразу наполнилась ярким дневным светом, и сказала, что началась война...
Постепенно видимые моему детскому взгляду военные атрибуты появились и в нашем тыловом городе.
Стекла окон и дворовых галерей стали заклеивать перекрестиями бумажных полос. Позже было приказано бумагу заменить на текстиль, и жильцы были вынуждены все переклеить, пустив в дело старые простыни и наволочки.
Везде налаживали светомаскировку, в подъездах ввернули синие лампочки.
В нашем доме организовали дружину МПВО, а во дворе установили электрический звонок, который должен был дублировать сигналы воздушной тревоги, и повесили кусок рельса, удары по которому означали тревогу химическую.
Всем, и детям в том числе, раздали противогазы. Женщины из санитарного звена проводили учения, накладывали шины и делали перевязки детям, которых затем таскали взад и вперед на носилках. Моя мама, которая в начале войны еще не работала, состояла в санитарах.
Зимой стали отключать электроэнергию. Освещали комнаты свечами и керосиновыми лампами, но затем перешли на более экономный и практичный способ.
Появились так называемые коптилки, состоявшие из фитиля, опущенного в небольшой пузырек с керосином. Горло пузырька закрывалось квадратной жестяной пластинкой, в отверстие которой и пропускался фитиль.
Две-три коптилки на тарелке довольно хорошо освещали комнату, а рядом с ними вполне можно было даже читать и писать.
Еще до войны Баку был почти полностью газифицирован. На кухнях стояли таганки с газовыми горелками, а комнаты, как правило, отапливались газовыми печами.
Через несколько месяцев после начала войны подача газа была практически прекращена. Готовили пищу и отапливали комнаты с помощью примусов и керосинок.
Помню, как холодно было в квартире, когда наступила мягкая, но сырая и ветренная бакинская зима. Очень часто выключали и подачу воды.
Однако, в некоторых домах все обстояло вполне нормально. Помню у наших родственников свет, газ и вода были всегда, круглые сутки.
Дело в том, что дом их находился рядом со зданием ЦК партии и с жилыми домами, где проживали ответственные товарищи, и был подключен к тем же магистралям. Конечно, ни о каких ограничениях в этом случае речи быть не могло...
Всю войну в Баку строго соблюдался комендантский час. Патрульные с красными нарукавными повязками, на которых стояли две белые буквы - КП (комендантский патруль), постоянно ходили по городу даже в дневное время. На базарах и в кинотеатрах, а это были тогда, пожалуй, единственные места скопления случайной публики, нередко устраивались облавы с массовой проверкой документов. Охотились на дезертиров.
Как-то раз ночью была устроена сплошная проверка жилых домов.
По правилам тех лет в квартире могли ночевать лишь те, кто там был прописан. К нам тоже пришел военный патруль и милиция, проверили у всех паспорта, а старший обошел комнаты, заглянул под кровати и попросил даже открыть большой платяной шкаф.
Все это рассказала мне мама, так как в этот час я уже дано спал.
На улицах нашего города в военные годы было очень много милиционеров, среди которых немало женщин.
Часто можно было увидеть милиционера на велосипеде.
Несмотря на относительно слабое движение, на большинстве перекрестков, где тогда еще не было автоматических светофоров, появившихся у нас в начале пятидесятых годов, стояли регулировщики.
Почему-то очень строго, особенно в центре, следили за правильным переходом улиц, а пешеходов-нарушителей штрафовали. Так что милиция была при деле. Милиционеры носили тогда кличку «лягавые», отношение к ним было несколько презрительное, так как многие считали, что место их не на городской улице, а на фронте.
Надо сказать, что в связи с особой важностью нефтедобычи и нефтепереработки для фронта (Баку был в те годы единственным крупным ее центром), многие бакинцы, особенно старших возрастов, а также ценные специалисты, не были призваны в армию и получили на производстве так называемую «броню».
Среди оставшихся дома был и мой отец. Уже только поэтому военные годы отнеслись к нашей семье более милостиво, чем к другим.
Вскоре после начала войны в Баку из Ленинграда эвакуировалось Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского.
В нашем доме поселились семьи преподавателей и командиров, поэтому непривычная жизнь в общей квартире с соседями также осталась в моей памяти одной из реалий военных лет.
В конце 1943-го или в начале 1944-го «дзержинцы» уехали. Однако, «спорные» квартиры, то есть те, где раньше жили репрессированные, по-прежнему использовались военными организациями и НКВД для размещения своих ответственных чинов.
Если члены семьи репрессированных не были в свое время высланы и оставались в Баку, то их «временно» размещали по другим квартирам нашего дома. Так что жизнь в «уплотненном» режиме у нас продолжалась.
Помню в квартире Лукиных, наших родственников, жил очень важный и осанистый, несмотря на довольно молодой возраст, член Военного совета Каспийской флотилии контр-адмирал Бондаренко.
Уже после войны его сменил командующий воздушной армией генерал-полковник Хрюкин Тимофей Тимофеевич, а следом прошла череда менее видных генералов - политработников, членов военного совета армии.
Только в конце пятидесятых, после реабилитации мужа, тете Саше Лукиной, которая к тому времени переехала в Тбилиси, с трудом, по суду, удалось возвратить ей принадлежащее.
Интересно было наблюдать со стороны генеральскую жизнь в соседской квартире. Через двор постоянно бегали солдаты-шоферы и офицеры-адьютанты, которые не только выполняли служебные поручения, но и ездили с «генеральшей» на базар, привозили большие ящики с пайковыми продуктами, перевозили мебель и домашние вещи, доставляли детей в школу и даже чистили на балконе генеральские сапоги.
Особый интерес всех обитателей нашего дома вызвало заселение генерала Хрюкина. Это был известный летчик, Герой Советского Союза, командовавший всю войну крупными авиационными соединениями, его имя часто отмечалось в приказах Верховного главнокомандующего и было известно многим.
Семья Хрюкина прибыла в Баку из оккупированной Германии и привезла с собой невообразимое количество «трофейного» домашнего имущества.
Целый день во двор въезжали грузовики и солдаты затаскивали в квартиру еще непривычную тогда шикарную полированную мебель и добротные деревянные ящики с вещами. Командовали заселением озабоченные офицеры и сама хозяйка. «Для кого война, а для кого мать родна», - довольно смело по тем временам откомментировала происходящее наша дворничиха Ариша...
Фронт стал приближаться к городу весной 1942 года.
Я впервые услышал название северокавказского городка Моздок не в наше время, когда он стал известен во всем мире в связи с тем, что там разместилась основная база российских федеральных сил, занятых усмирением «непокорной» Чечни.
Этот Моздок, переходя из рук в руки, стал последним кровавым рубежом, остановившим осенью 1942-го наступление немцев на Северном Кавказе. Кровопролитные и упорные бои под Моздоком, почти неизвестые истории, стали для всех бакинцев неким символом, вторым Сталинградом, где решалась их судьба, где воевали и погибали их родные и близкие.
Между тем, летом и ранней осенью началась организованная эвакуация города. Морским путем, через Красноводск, уезжали в Татарию и Башкирию нефтяники с семьями для работы на промыслах так называемого Второго Баку, получившим именно в эти годы мощный импульс развития.
Мы тоже собирались в дорогу. Мама шила телогрейки и ватные штаны, которые должны были спасти нас от непривычных российских холодов.
Однако, не успев как следует начаться, эвакуация была остановлена ввиду наступившего победного перелома в военных действиях.
В эти самые тревожные для бакинцев военные месяцы в городе дважды объявляли воздушную тревогу. В первый раз случилось это днем.
Бомбоубежища в нашем доме, как и в большинстве других домов, не было, и жителям следовало укрываться в подворотне и в подъездах.
Считалось, что в этих местах строительные конструкции наиболее прочные и не обрушаться от близкого взрыва бомбы.
Позже мы узнали, что в районе города появился тогда высотный самолет-разведчик. Некоторые даже наблюдали, как он летел в небе, сплошь покрытом белыми разрывами зенитных снарядов.
Зенитные батареи, расположенные на плато, над Бакинской бухтой, а также на Приморском бульваре, который за исключением небольшого по протяжению участка, что напротив Девичьей башни, был по этому случаю в самом начале войны закрыт для посещений, стреляли без перерыва.
Дальнобойных зениток в Баку тогда не было и высотный самолет ушел невредимым.
После первого налета приказано было копать в городе защитные щели.
Но в нашем районе затею эту осуществлять не стали, так как плотность застройки была очень высокой и щели неминуемо были бы завалены обрушившимися стенами домов.
Только кое-где, в скверах и на площадях, появились щели и даже закрытые блиндажи, тут же заполнившиеся водой.
Именно высокий уровень подпочвенных вод в приморской части города не позволял ранее устраивать в домах подвалы, которые можно было бы оборудовать под бомбоубежища. Это и лишало жителей защиты от бомб.
Во второй раз налет был ночной.
Помню, как мама разбудила, одела меня и повела в подворотню.
Папа дежурил на крыше, где готовились тушить зажигательные бомбы.
Как и в первый раз, непрерывно и оглушительно били зенитки, а по небу метались прожекторные лучи.
Если при первом налете я очень испугался и даже плакал, то теперь вел себя совершенно спокойно. Тем более, и в этот раз на город не упало ни одной неприятельской бомбы.
Вероятно, силы наступавшей немецкой армии были уже не те, что раньше, если по нефтяному Баку они не сумели нанести воздушного удара.
Но учитывая особую важность нефтяной промышленности для обеспечения фронта, а также чрезвычайную уязвимость промыслов, нефтеперегонных заводов и нефтехранилищ, всему этому трудно найти объяснение.
Главным вопросом для тыловых городов и его населения стал в военные годы вопрос продовольственный.
По карточкам выдавали черный хлеб, сырой и невкусный, иногда даже малосъедобный, а также ограниченный перечень и крайне ограниченное количество продуктов, включавших крупу и вермишель, подсолнечное или хлопковое масло, селедку и рыбные консервы.
Вместо сахара люди использовали сахарин, который маленькими пакетиками покупали на базаре. Многие, в том числе папа и тетя Ангелина, приносили домой из рабочих столовых свою порцию дополнительного питания.
Папа - бульон, сваренный из костей, в маленьком эмалированном бидончике, а тетя - мясную котлетку с гарниром, которая почти всегда доставалась мне.
Тетя работала бухгалтером в «Интуристе» и там была по-настоящему хорошая рабочая столовая.
Запасов в начале войны у нас не было никаких - до войны как-то не принято было делать продуктовые запасы. Помню только большую стеклянную банку засахарившегося вишневого варенья, которая стояла в буфете и которым мама долго кормила меня, выкладывая на блюдце по одной - две ложечки этого лакомства.
Да еще буквально в первые военные дни папа купил небольшой мешок пшеницы, которая хранилась в глиняном кувшине в столовой, за пианино.
Мама варила из размоченных зерен кашу, а вскоре срочно пережаривала всю пшеницу на сковородке, так как в кувшине завелись жучки.
В первые годы войны бакинцы получали продуктов очень и очень мало, еды не хватало буквально всем.
Я был единственным ребенком на две семьи и меня общими усилиями кормили досыта. Не помню, чтобы я по-настоящему чувствовал когда-то голод.
Взрослые же люди вокруг постоянно недоедали и, как мне потом рассказывали многие наши знакомые, пережившие военные годы в тыловом Баку, они всегда хотели есть и почти постоянно думали о еде. Мама и папа об этом не говорили никогда, так как были люди сдержанные по натуре, а кроме того, не считали, что в войну переносили какие-то особые тяготы в сранении с теми, кто действительно в военные годы сильно страдал и испытывал настоящие лишения.
Одно обстоятельство, особенно существенное летом и осенью, облегчало положение с продовольствием.
Из-за отсутствия всякого вывоза, апшеронские скоропортящиеся фрукты и овощи тут же продавались на городских базарах.
Урожаи, несмотря на военные годы, были неплохие и цены держались на высоком, но ограниченно доступном, если так можно сказать, уровне.
Помидоры, огурцы, виноград, инжир, различная зелень помогли бакинцам пережить голодные годы. Многие сами взялись тогда за небольшие огороды.
У нас было несколько грядок прямо под окном квартиры, в палисаднике со стороны улицы. Но сажать там можно было только зелень - крессалат, укроп, петрушку. Что-то более существенное, наример огурцы или помидоры, неминуемо срывалось посторонними еще до созревания.
Папа возделывал участок за городом. Там сотрудники «Азнефтепроекта» посадили кукурузу и положили много труда, пропалывая и поливая делянки. Ранней осенью папа принес небольшой мешок кукурузных початков весом в несколько килограммов. Помню, как разочаровалась мама таким более чем скромным итогом его многомесячных усилий.Наверное к концу 1943-го положение с продовольствием в Баку стало изменяться в лучшую сторону.
Нефтяники получили особое снабжение, и часть союзнической помощи, которая поступала через Баку из Ирана по Каспийскому морю, попала на прилавки распределителей.
Нефтяники имели особые магазины, но и общие магазины, куда «прикрепляли» жителей окрестных улиц, тоже стали снабжаться немного лучше.
Я помню, как появилась у нас знаменитая американская тушёнка, сухое молоко, яичный порошок, консервированная колбаса.
Всего этого выдавали очень понемногу, но все было очень вкусное, несравнимое, например, с темно-серой вермишелью военных лет, изготовленной из низкокачественной муки, которая буквально, как мне тогда казалось, царапала горло и которую я ел с великой неохотой.
По детским карточкам начали выдавать серый хлеб и я избавился, наконец, от необходимости есть черный, который тоже очень не любил.
Желание съесть кусочек мягкого белого хлеба и вообще чего-то повкуснее постоянно поддерживалось во мне сильным соблазном.
Дело в том, что наши новые соседи – «дзержинцы» получали командирский военно-морской паек, ели всякие вкусные вещи, что не могло скрыться от моих любопытных взглядов.
Хотя завтракали они и обедали всегда в своей комнате, за закрытыми дверьми, готовить еду им приходилось в общей кухне, где я крутился постоянно.
Никогда они меня ничем не угощали, в те годы такое было, вероятно, не у всех принято. Только в самом конце их пребывания я съел все же кусок настоящего белого хлеба и вволю наелся хрустящих белых сухарей.
У наших соседей оставалось и постепенно накопилось довольно много белого пайкового хлеба. Уезжая, они были вынуждены попросить мою маму насушить им в дорогу сухарей.
Плиты с духовкой в квартире никогда не было, а пироги пекли до войны и, случалось, в конце войны, когда появилась канадская мука, в так называемой громоздкой «буржуйке». И поэтому только в маминой буржуйке можно было насушить эти самые сухари.
Когда моя мама резала хлебные «кирпичики» и укладывала их в протвень, я, вероятно, так выразительно за всем этим наблюдал, что она, вопреки своим принципам, смазала кусок топленым маслом и протянула его мне. Признаться, поступок этот не был похож на мамин, и я помню свое тогдашнее сильное удивление. А потом, когда сухари были готовы и мама отдавала их соседке, та в благодарность за труды отсыпала немного «для сыночка».
В конце 1944-го в центре города, на Ольгинской, в помещениях, где размещался центральный гастроном, открыли большой коммерческий магазин – «Особторг».
Там без всяких карточек, но по очень высоким ценам продавалось все или почти все. У входа дежурил швейцар в униформе, который не пускал внутрь беспризорных и вообще всех почему-либо подозрительных, не похожих на настоящих покупателей дорогого магазина.
Цены были бешенные и недоступные, но изредка мы что-то там все же покупали. Именно оттуда принесла мне тетя Ангелина бисквитное пирожное с разноцветным сливочным кремом. До сего дня я помню вкус этого необыкновенного лакомства. Странно, но и сейчас мне кажется, что ничего более вкусного, чем бакинское бисквитное пирожное из коммерческого магазина я никогда не ел.
Каждый раз, когда я пробую бисквитные пирожные, только самые свежие и вкусные из них отдаленно мне напоминают то самое, из моего военного бакинского детства... Вскоре на улицах начали продавать сливочное мороженное в вафлях, а позднее и пачки пломбира. Лакомством считалось также растаявшее мороженное, которое почему-то называлось суфле .
Для того, чтобы подкормиться, купив что-то на базаре, а позднее и в коммерческом магазине, большинству приходилось регулярно продавать свои вещи и ценности.
У нас сохранилось кое-что из золотых и серебренных вещей и кое-какая посуда, принадлежавшая Плескачевским, сохранилось белье и одежда, без которой можно было бы как-то обойтись. За годы войны и в первые послевоенные годы мама почти все это продала.
Чаще всего вещи покупал пожилой, внешне очень спокойный и допропорядочный азербайджанец в традиционной круглой каракулевой шапочке, которого все вокруг называли «ами».
Он регулярно заходил к нам, осматривал и оценивал вещи и тут же расплачивался. С ним имели дело многие наши соседи и знакомые.
Несколько раз в месяц ему же продавала мама накопившийся у нас излишек пайкового черного хлеба. Килограмм стоил на черном рынке больше ста рублей, но «ами» покупал немного дешевле.
Если учесть, что папа зарабатывал в месяц около двух тысяч (из зарплаты, кроме налога, вычиталась определенная сумма в счет государственного займа, подписка на который была фактически обязательной), а мама значительно меньше, то три или четыре килограмма проданного хлеба были для нас определенным подспорьем.
Кроме того, курил мой папа очень мало и у него постоянно оставался пайковый табак, который тоже покупал «ами».
Помню я его очень хорошо. Пожилых людей подобной внешности, похожих друг на друга манерой поведения, можно было видеть в те годы во всех немногочисленных бакинских скверах и на бульваре. Они сидели в тени небольшими группами, негромко и степенно беседовали, перебирая четки.
Как-то на Парапете я заметил среди них и нашего «ами». Рассказывали, что все это были очень богатые деловые люди, сделавшие во время войны крупные состояния.
В Баку существовал толкучий рынок, названный в народе «кубинкой». Здесь торговали всем на свете - едой, одеждой, домашней утварью.
В конце войны на «кубинке» жарили, тут же продавали и ели шашлыки.
В укромных местах распространены были азартные игры в карты и в кости. Всегда много было на толкучке искалеченных войной. Они торговали чем попало, совершенно не опасаясь нередких милицейских облав на спекулянтов.
К калекам милиция не подходила. Как-то папа продал на «кубинке» несколько пачек своего табака. Но ему занятие это, видимо, не понравилось, и в очередной раз табак снова был предложен незаменимому и по-своему добросовестному «ами».
Я побывал на «кубинке» всего один раз, сразу после окончания войны.
Толкучка поразила меня размерами и многолюдием. Не только большая немощеная площадь, но и прилегающие улицы были заполнены покупающими и продающими.
Папа купил в тот раз кустарно сшитые туфли, которые мне сразу очень понравились. Именно поэтому, примеряя их, я скрыл, что туфли довольно сильно жмут. Однако, мучился я недолго, разнашивая свои новые туфли.
Недолго, потому что дней через десять они полностью развалились.
И перед родителями вновь встала проблема с моей обувью.
Кстати, обувь была во время войны вопросом почти неразрешимым. Одежду как-то шили, переделывали и перешивали. Мама моя умела шить и шила очень хорошо. Она одевала не только меня с отцом и тетю Ангелину, но в те военные годы немного работала даже на заказ. Зато обувь взять было неоткуда. Взрослые еще что-то донашивали, а растущие дети оказывались в безвыходном положении.
Многие, благо несколько месяцев в Баку устойчиво жарко, ходили босиком, многие, и я в их числе, бегали босиком только дома и во дворе, а на улице гремели деревянными подошвами самодельных босоножек. Однако, рано или поздно наступали холодные дни и родителям необходимо было что-то предпринимать. Вот тут и приходилось идти на «кубинку».
Мое бакинское военное детство[править]
События и происшествия, связанные с войной, не заслоняют в моей памяти эпизодов и историй, которые случались и случаются в детстве любого ребенка, выросшего в самое может быть благоприятное и спокойное мирное время.
Конечно, для бакинских детей война и военные испытания не были столь тяжки и трагичны, как для других наших сверстников, попавших в эпицентр военной катастрофы.
Но, мне кажется, и при более суровом раскладе, детство всегда находит свою «нишу» и оставляет о себе, наряду со всем другим, и настоящие, детские воспоминания.
Мама почти всегда, весь день проводила дома, но всегда была очень занята.
В музыкальной школе, где она начала работать, было мало классных комнат и очень мало инструментов.
Ученики из школы, а также те, кто занимался частным образом, приходили к нам домой.
В свободное же от занятий время мама управлялась с хозяйством, ходила за продуктами, шила и стирала.
Поднималась она обычно в пять или в половине шестого утра, а освобождалась от дел только поздно вечером.
Папа был всегда на работе, приходил домой очень поздно, ни о каком разделении домашних забот и речи не было.
Именно поэтому, едва мне исполнилось лет шесть, мама начала посылать меня в магазин, в кассу, где оплачивались коммунальные услуги и где приходилось очень долго простаивать в очереди, давала другие самостоятельные поручения. При этом мне доверялись не только деньги, но что самое главное, продуктовые карточки, потеря которых означала буквальную катастрофу для семьи.
Однако, нельзя же было допускать, чтобы я слонялся весь день без надзора или сидел дома!
В детский сад меня никогда не водили, но его заменила мне так называемая «группа». И я не без неудовольствия ходил в эту самую детскую группу.
При этом, я с удовольствием оставался иногда дома, слонялся по двору, возился со своими игрушками и книжками.
Помню, были периоды, когда в детскую группу я не ходил по несколько недель - то был простужен, то группа распадалась, то родителям становилось в какие-то месяцы накладно платить за меня.
Однако, такое можно считать исключением. Мама справедливо полагала, что я как можно больше должен быть на воздухе, под постоянным присмотром и в окружении положительных сверстников, которые ведут себя хорошо и не подают дурных примеров.
Требованиям мамы в той или иной степени отвечали все те «группы», куда я ходил. Вначале это была маленькая английская группа.
Там собиралось всего три или четыре ребенка. Занималась нами очень важная и образованная дама, мадам Бенкендорф (так неизменно называла ее мама), еще не очень старая, из «бывших». Среди детей посещавших группу, был ее внук, заносчивый мальчик, который не хотел со мной играть и вообще старался меня не замечать.
Во время прогулок на бульваре мадам Бенкендорф пробовала учить нас отдельным английским словам и выражениям.
Однако, вскоре Бенкендорфы уехали из города навсегда. Вероятнее всего, их выслали.
Из Баку в то время массово высылали «ненадежный элемент», но об этом по существовавшим тогда негласным нормам поведения не распространялись.
После этого я посещал две или три более многочисленные детские группы, где под присмотром пожилых и довольно образованных женщин проводили целый день, с утра и до вечера, с десяток моих сверстников.
Летом и осенью обитали мы на бульваре, а в холодное время года гуляли на Парапете, защищенном от бакинского ветра, или в небольшом сквере, что располагался в начале Шемахинки.
Одновременно в центральной части города существовало не менее десятка подобных детских групп, каждая из которых облюбовала себе определенную аллею и даже скамейку на этой аллее, не занимая чужих мест и не вторгаясь в их «владения».
В группах разрешалось играть только в более-менее спокойные игры, например, в «классы». Эта игра была очень тогда популярна, как среди девочек, так и среди мальчиков. Разлинованные мелом прямоугольники покрывали асфальт во всех, наверное, скверах и дворах города.
Можно было еще прыгать через веревочку, а также играть в прятки, но в строго установленных границах, не удаляясь особенно от скамейки, где окруженная сумками с завтраками и водой, а также несколькими самыми младшими детьми, обосновалась наша наставница. Часто она собирала всех и читала каую-нибудь детскую книжку.
Такие слишком подвижные игры, как футбол, горелки или казаки-разбойники, оставались на вечер, для игр во дворе.
Вот там могли мы кричать, бегать и носится, а играя в прятки, залезать и забегать куда угодно. Там можно было даже залезть на дерево...
Ну и, конечно, мальчики везде и всегда играли тогда в войну. Вооружившись просто палками или, в лучшем случае, деревянным подобием ружей и пистолетов, которые выстругивали наши более взрослые и умелые товарищи, мы прятались за кустами, с криком атаковали и маршировали, распевая популярные военные песни.
В непогоду, особенно зимой и ранней весной, наши наставницы водили нас к себе и там, дома, под крышей, развлекали и занимались с нами, как могли.
Грозой для детских групп были беспризорники. Нет, они нас не били и не обижали. Они охотились за нашими сумками с едой.
В военные годы беспризорников в Баку было немало. Грязные, оборванные и голодные, они держались небольшими группами и воровали все, что плохо лежит.
При появлении такой группы наша наставница созывала своих детей поближе и изготавливалась вместе с ними к защите.
Помню, как однажды бдительность не была во-время проявлена и беспризорники утащили чью-то сумку. Пустую сумку, съев все ее содержимое, они позже вернули.
Хочу отдать справедливость пожилым женщинам, занимавшимся тогда нами. Даже в неприятные моменты похищения доверенных им детских завтраков, в них не чувствовалась злоба либо, тем более, ненависть к несчастным беспризорникам.
Помню, как женщины эти неоднократно заговаривали с некоторыми из них, делились иногда чем-то из съестного. А с установлением контактов и взаимопонимания угроза нападений в дальнейшем сильно уменьшилась...
Даже спустя год после окончания войны в Баку еще встречались оборванные и грязные дети, которые ночевали где-то в укромных местах, а днем околачивались обычно на базарах и возле некоторых кинотеатров.
Было их, конечно, тогда уже немного и почти всех их я знал в лицо.
Много времени и внимания уделяла мне в детстве тетя Ангелина.
С радостью и нетерпением ожидал я субботы, потому что в субботу вечером мама отводила меня к ней «с ночевкой» в дом на улице Мясникова.
Помню, как обычно вместе с мамой, тетей и бабушкой долго сидели мы в темной, слабо освещенной коптилками комнате и пили чай. За скудным чайным столом тех военных лет я никогда не слышал никаких сплетней и пересудов о знакомых и родственниках.
Взрослые говорили о вестях с фронта, о письмах, которые часто писал Степа и которые приходили довольно регулярно.
Вспоминали довоенные и дореволюционные годы, вспоминали близких, ушедших в мир иной.
Часто в такие вечера была с нами старый и верный друг семьи Плескачевских, Софья Николаевна, уже немолодая одинокая женщина, курившая самокрутки, которые она держала в старом кожаном портсигаре. Софья Николаевна рассказывала иногда о Варшаве, где прошли ее детство и молодость, где она успела закончить гимназию и откуда еще во время Первой мировой эвакуировалась в Баку.
Тогда, оказавшись в Баку совершенно одна, Софья Николаевна познакомилась с Плескачевскими, нашла людей, близких по духу и интересам, нашла поддержку и содействие у Ивана Семеновича, взявшего ее на работу в Продамету, а затем, после революции, в «Техснаб».
Софья Николаевна вспоминала о Варшаве со слезами в голосе. Она очень любила свой родной город и многое в жизни безвозвратно потеряла, навсегда его покинув.
Племянница Софьи Николаевны, которая жила до войны где-то далеко, в другом городе, ушла, как и Степа, на фронт. О ней, как и о Степе, часто говорили взрослые, ее письма читала Софья Николаевна.
Мне даже казалось, порой, что я знаю эту молодую женщину и вижу, как она сидит у постели раненого бойца в далеком фронтовом госпитале.
Пройдя всю войну, летом 1945-го, племяница Софьи Николаевны неожиданно умерла где-то в Польше, за несколько недель до демобилизации при странных и не выясненных позднее обстоятельствах...
Когда гости расходились, мы устанавливали старую офицерскую раскладушку-сороконожку, стелили постель для меня и укладывались спать. Но перед сном тетя всегда читала мне что-нибудь вслух. Обычно это были Ж.Верн или Ф.Купер, иногда детские книжки советских авторов - Кассиля или Гайдара.
В выборе книг для чтения тетя кардинально расходилась с папой. Папа всегда был твердо уверен, что я должен воспитываться на русской классике. Современную детскую литературу, а также приключенческие книги, которые традиционно любили читать все дети, он называл белибердой.
Помню, как уже во втором классе тетя читала мне «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, а потом дала мне эту книгу с собой. Папа остался очень этим недоволен, а «Золотого теленка» отобрал и спрятал.
Сам он тоже иногда читал мне вслух. «Кавказский пленник» Толстого, Жилин с Костылиным, вошли в мою жизнь именно тогда и навсегда запомнились с папиного голоса.
На другой день утром, в воскресенье, мы с тетей отправлялись гулять, ходили иногда в кино, несколько раз ездили по городу на трамвае и на троллейбусе. Троллейбус пустили в Баку уже в дни войны, и для всех были в диковинку невиданные доселе автоматические двери.
Тетя Ангелина хотела показать мне далекие от дома районы нашего большого города, где я никогда до этого не бывал, пробудить как-то интерес к поездкам и путешествиям.
А в военные годы это можно было сделать только таким вот нехитрым способом.
Когда у тети было много работы и приходилось идти на службу и в воскресенье, она брала меня с собою в «Интурист».
Бухгалтерия располагалась в полуподвальном этаже. Тетя сажала меня за свободный стол, и я с удовольствием рисовал что-то цветными карандашами на негодных служебных формах и бланках или складывал и отнимал числа с помощью механического арифмометра «Феликс».
Надо сказать, что тетя воспитывала меня, стараясь убедить и наставить логикой рассуждений. Она объясняла мне, почему человек должен поступать в определенной ситуации так, а не иначе, приводя многочисленные примеры и аналогии и рассуждая от противного.
Она любила и умела возиться не только со мной, но и с детьми соседей, знакомых и сотрудников, рассказывала им нравоучительнвые истории, стремилась сформировать в них на основе своих бесед определенные идеалы и представления.
Конечно, главным всегда был для нее я, а не чужие дети, но когда я сталкивался у тети с кем-то из ее подопечных, она никогда не проявляла внешне своих предпочтений.
Тетя сильно горевала, что у нее не было своих собственных детей, и она хотела даже усыновить чужого ребенка. Но это каждый раз не получалось.
Добавлю, что мои родители воспитывали меня по-иному. Они действовали по-преимуществу методом личного примера, избегая, как правило, нравоучительных бесед. И это не только мои наблюдения.
Когда я был уже взрослым, мне мама обо всем этом сказала сама.
Так что родительское воспитание и воспитание тети как бы взаимно дополняли друг друга...
Никогда не забудутся новогодние елки.
Для детей военных лет праздник у елки, выступления артистов и, особенно, подарки в цветных марлевых накрахмаленных мешочках, которые выдавались по окончании праздника строго по пригласительным билетам, становились большим событием.
В мешочек клали обычно пачку печенья, несколько конфет, яблоко и мандарин.
Елки устраивало каждое учреждение и предприятие для детей своих сотрудников, каждая школа для своих учеников.
Кроме того, почти каждому ребенку доставался билет на какой-то праздник общего характера - в Доме культуры, во Дворце пионеров или в помещении кинотеатра.
Мне запомнился праздник в Доме Красной Армии, где мама преподавала в детской музыкальной школе. Запомнился громадной, до самого потолка елкой в просторном фойе с зеркалами по стенам, представлением на сцене нарядного зала, вкусными угощениями, которые я вытащил уже дома из подарочного мешочка.
Помню и елку в «Интуристе», где я впервые в тот день проехался на лифте, управляемом пожилым лифтером в форменной фуражке. Детей сотрудников, пришедших туда на елку, было совсем немного. С нами долго веселились и играли взрослые, а потом усадили за общий стол и угостили сладким чаем с печеньем.
Но самый интересный, самый веселый праздник елки, куда все стремились попасть, происходил в городском Дворце пионеров. Там я никогда не был.
Не знаю, может быть я идеализирую происходившее в те далекие времена, но до сих пор удивляюсь, как хорошо, с какой любовью к нам, детям, все это устраивалось.
По сравнению с тем, что было позже, в спокойные и мирные времена, когда организовать, к примеру, подарки не представляло особого труда, подарки военных лет выглядели куда как привлекательнее. И, я уверен, не только в моих глазах, в глазах маленького мальчика военных лет.
Объяснить такое можно лишь добросовестностью и высоким чувством долга у людей, работавших в то время с детьми, как профессионально, так и в порядке общественного поручения. А чувство долга в военное время поддерживалось не только боязнью строгого наказания, но, зачастую, и более высокими мотивами.
Редким, но постоянным развлечением стали походы в кино. Во время войны одного меня туда еще не пускали, я был слишком мал. Поэтому каждый кинофильм, на который меня приводили, становился событием.
Помню, как смотрел я в самом начале войны музыкальный фильм «Свинарка и пастух» с Ладыниной и Зейдлиным, как ходил на так называемые «Киносборники», где собирались короткие документальные и игровые сюжеты на военные темы.
Надолго запомнилась картина о гражданской войне «Мы из Кронштадта», необычайно популярная тогда в детской аудитории, и «Подводная лодка Т-9», снятая в Баку эвакуированными мосфильмовцами и ленфильмовцами.
В первые послевоенные годы, когда я стал ходить в кино на детские сеансы совершенно один, а также с товарищами по двору или по школе, я «досмотрел» весь нехитрый военный репертуар.
Он состоял из довоенных лент, таких, как знаменитый «Чапаев», комедий «Сердца четырех», «Подкидыш», «Антон Иванович сердится», и, конечно, «Цирк», «Веселые ребята» и «Волга-Волга» с Л. Орловой, картин с участием второй тогдашней звезды - М. Ладыниной – «Трактористы», «Богатая невеста», фильмов «Парень из нашего города» с Б. Крючковым, «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», трилогии о Максиме и других картин на «революционную тематику».
Из лент, снятых в военные годы, помню картину «Секретарь райкома» с Б. Чирковым, «Два бойца» с М. Бернесом и Б. Андреевым, «Небесный тихоход» с тем же Б. Крючковым.
На взрослых громадное впечатление призвели в конце войны новые американские кинокартины, шедшие при переполненных залах. «Серенада Солнечной долины» и «Джорж из Джинкин-джаза» показали всем совершенно иную жизнь, иное лицо войны.
Одним из сокровенных желаний папы и мамы всегда было обучить меня иностранному языку. Мама моя неплохо владела еще с детства французским, у папы с языком, тоже французским, дело обстояло похуже.
Владение языком мои родители справедливо считали обязательным элементом настоящего образования, хотя в те далекие времена изучить иностранный язык стремились очень немногие, а применить его на практике могли только специалисты-преподаватели и переводчики. Не то что поговорить с иностранцем, даже прочесть иностранную газету рядовому гражданину не представлялось возможным, а все иностранное считалось в высшей степени подозрительным.
Поэтому иностранный язык более-менее серьезно изучали и худо-бедно знали лишь окончившие институт иностранных языков.После неудачной попытки с мадам Бенкендорф начать изучение языка в условиях войны некоторое время никак не удавалось.
Однако, в 1944-ом моя мама с другими родителями, которые надеялись, что в будущем английский язык поможет их детям, организовали, наконец, небольшую группу для занятий.
Под вечер, раза два или три в неделю у нас на квартире собирались мой сосед Вика Трояновский, мальчик на два года старше меня, драчун и забияка, его двоюродный брат Юра, мой ровесник Рафик Пахлавуни, у которого в нашем доме жила тетка и который поэтому часто у нас появлялся, ровесник Вики Толя Бернер, живший неподалеку, и я.
Учила нас молодая и энергичная девушка по имени Тереза, студентка Института иностранных языков. Особых успехов наши занятия не принесли. Мы выучили некоторые английские слова и выражения, несколько английских стишков, которые вскоре забылись, а группа через год или полтора распалась.
Однако, все мы надолго запомнили наши встречи. Кроме занятий, мы ходили друг к другу на дни рождения, чаще, чем раньше, встречались и играли во дворе. Иногда кто-нибудь из родителей водил нас всех вместе в кино и на прогулки. Помню даже поход в цирк.
Особенно весело и хорошо стало нам, когда занятия перенесли на квартиру Трояновских, наших соседей по дому.
Мать Вики, Софья Петровна, известная в городе врач по желудочным болезням, в эти часы, как правило, была на работе, а домработница Таня нам совсем не мешала.
Тереза каждый раз опаздывала, а мы специально собирались пораньше и прекрасно проводили время - носились по квартире, играли в прятки, устраивали «нападения» на самого старшего из нас - Юру.
Однажды, когда Тереза вообще не пришла, мы до того разбушевались и даже расхулиганились, кидая с балкона на входящих и выходящих из нашего дома комьями земли из цветочных горшков, что последовали жалобы соседей.
Всем тогда сильно досталось от родителей. Помню вечером родители собрались на обсуждение нашего поведения, обставив процедуру торжественно и нарочито строго.
По одному нас вызывали в комнату, где со строгими лицами сидели взрослые, задавали пристрастные вопросы, выговаривали каждого в отдельности, а затем и всех вместе.
Председательствовал Викин отец, Матвей Соломонович Финкельштейн, человек добрый и мягкий, который в этот вечер очень старался казаться суровым и рассержанным. В заключение нас пригласили в комнату, и мы стоя выслушали объявление нам строгого и последнего общественного предупреждения.
Однако, вероятно именно в тот самый день все пришли к печальному выводу, что мы с Терезой валяем дурака, что пользы от занятий мало и вскоре группа распалась.
Грустные воспоминания связаны у меня с одним из товарищей по английской группе, с Толей Бернером. Это был тихий, сдержанный, серьезный и рассудительный, всегда аккуратный и подтянутый, очень вежливый мальчик, полный и круглолицый, который к тому времени уже второй или третий год ходил в школу.
Одежда, портфель со школьными учебниками и тетрадями - все было у него в образцовом порядке. Толю всегда ставили нам в пример.
Жил он недалеко, во дворе дома, где помещался детский кинотеатр «Пролетарий». По-моему Юра Трояновский придумал Толе что-то вроде клички - джентельмен из «Пролетария».
Даже взрослые находили ее удачной. Отца Толи, старшего офицера, служившего в строительных частях НКВД, я видел редко, только раз или два, когда был у них в гостях на дне рождения.
Зато мать встречал довольно часто и помню хорошо. Она не работала и все свое время отдавала сыну.
Когда наши занятия закончились, моя мама нередко останавливалась, увидев ее на улице, и они регулярно обсуждали наши школьные успехи и неудачи. Толя благодаря этому не выпал из поля зрения, хотя виделись мы мельком и довольно редко. Он, как всегда, много занимался и читал, а поэтому вечно сидел дома.
Учился я уже в 7-ом клоссе, а Толя заканчивал школу, когда я узнал от мамы, что он тяжело заболел.
Все началось с операции по поводу гнойного апендицита, давшего какие-то редко встречающиеся осложнения.
Однако, Толя неплохо закончил школу и поступил в университет.
Периодически он болел и подолгу лежал в больнице. Обо всем этом я по-прежнему узнавал от мамы.
И вот уже после окончания института, проходя днем по приморскому бульвару, я увидел измученного и немолодого на вид, полысевшего человека. Он сидел на скамейке с раскрытой книгой на коленях и смотрел куда-то вдаль, на пароходы, стоявшие на внутреннем рейде. Я узнал Толю и подошел к нему. И он тоже тут же узнал меня.
Мы хорошо и долго поговорили в тот теплый осенний день, вспомнили детские годы. Толя был все такой же сдержанный и серьезный, джентельмен из «Пролетария», а в глазах и в улыбке я заметил грустное и не по годам печальное выражение.
После этого мы встречались еще несколько раз, но всегда случайно.
Он, как и я, были рады видеть друг друга, поговорить о бакинской жизни, о работе, вспомнить общих знакомых.
После окончания университета Толя по-прежнему жил со стариками-родителями и работал в каком-то научном учреждении, кажется в Институте географии.
В светлые периоды, когда болезнь немного отпускала, он старался наверстать упущенное в своих занятиях и нечасто выходил из дома.
Поэтому встречи наши были очень редки. В последнюю случайную встречу мы также посидели на бульваре и я проводил его до дома.
Прощаясь у ворот, ведущих во двор кинотеатра «Вэтэн» (так стал называться «Пролетарий»), Толя печально улыбнулся и сказал, что дела его со здоровьем идут все хуже и хуже. А вскоре я узнал о Толиной смерти. Это был один из первых моих сверстников, кто ушел из жизни.
Многие годы не проходит во мне чувство вины перед Толей. Может быть можно было помочь этому одинокому и обреченному молодому человеку, поддержать его в чем-то, хотя на первый взгляд и казалось, что он не нуждается в чьей-то помощи и поддержке.
До конца он оставался одинок и независимо горд, старался не говорить о своем состоянии, не хотел никого отягощать своими проблемами.
Всегда и, наверное, не только при встречах со мной, он избегал, вероятно поэтому, разговоров о продолжении общения в будущем, не хотел, ссылаясь на занятость, уславливаться о новых встречах. А может быть и действительно он был занят и увлечен своей работой, своей диссертацией...
Сегодня никто, наверное, не вспоминает о Толе. Родители его давно умерли, а близких людей и просто хороших знакомых у него, по-моему, и не было.
Он так и не смог их приобрести. Но я всегда помню о нем. Может быть память эта как-то оправдает меня перед Толей Бернером...
Еще одной неудачей мамы в попытке воспитать из меня всесторонне развитого и образованного человека стала неудача с музыкой.
Несмотря на тревожные военные годы, мама мечтала, что я обязательно буду играть на каком-нибудь инструменте.
Со скрипкой и виолончелью с самого начала ничего не вышло. У меня оказался плохой музыкальный слух - в папу.
На фортепиано мама взялась обучать меня сама в надежде, что слух удастся немного развить, и в семь лет я, как все дети, поступлю в нормальную музыкальную школу.
Не добившись успеха, она через полгода отвела меня к своей старой учительнице Цецилии Соломоновне Грушко.
Цецилия Соломоновна приехала в Баку еще перед Первой мировой войной и стала вести класс в Музыкальном училище, где учились тогда мама и тетя Ангелина.
Это была молодая, эффектная женщина, но самое главное, талантливая пианистка и педагог. Познакомившись с ней у общих знакомых и услышав ее игру, мой дед, который (я об этом уже упоминал) всегда больше доверял и полагался на людей молодых, тут же решил, что именно этот человек должен преподавать его дочерям.
Так оно и произошло, а Цецилия Соломоновна навсегда осталась для мамы высшим авторитетом в области фортепьянной педагогики.
Помню, как несколько раз в неделю мама поднимала меня рано утром и чуть свет отводила на урок музыки. При свете коптилок я разучивал с Цецилией Соломоновной пьески и этюды Гречанинова, Чайковского и Баха, но делал это с великой неохотой.
Занятия пришлось через год или полтора оставить, так как слух у меня не развивался, а желание учиться музыке пропало вовсе...
Война, описанная здесь, может показаться не такой уже страшной. Хотя бы потому, что рядом со мною не гибли люди, не взрывались снаряды и бомбы, мои родители были все эти годы со мной и меня все эти годы окружали стены родного дома....
И все же это была война. Она была многолика и в разных обстоятельствах, к разным людям обращалась своим особенным лицом, не похожим на другие лица. Я видел и помню людей, совершенно не почувствовавших даже тех военных тягот, которые мне запомнились, не знавших плохой пищи, вечно протекавших ботинок, пронизывающего холода в квартире, острого желания иметь какую-то самую неказистую игрушку или попробовать чего-то вкусного.
Как-то раз в конце войны меня пригласили на день рождения к одному из маминых учеников.
Глава семьи, некто Пучков, который появился в самом конце детского праздника и запомнился мне своим роскошным кожаным пальто, был, как мне помнится, руководителем треста «Азнефтемаш».
Помню непривычное обилие и особый вкус стоявших на столе угощений.
На всех детских домашних праздниках, на которых я бывал раньше, перед каждым гостем стояла тарелка с кусочком пирога, а также иногда конфеткой и яблочком или мандарином.
Дети пили чай с тем, что каждому было приготовлено, и вставали из-за стола. Здесь же с больших блюд, полных бутербродами с сыром и колбасой, нарезанными на большие куски пирогами и печеньем, брать можно было сколько душе угодно.
А потом гостей повели по темной по случаю светомаскировки лестнице, светя ручными фонариками, и посадили в машину «ЗИС», чтобы развезти по домам. Добавлю, у меня ни тогда, ни потом не было чувства зависти к этим людям. Более того, позже я понял, что были это люди хорошие и гостеприимные, а сам глава семьи Пучков нес на себе тяжелый груз ответственности и головой отвечал за дело, которое ему было доверено.
Не просто так, зазря получал он и колбасу, и сыр и печенье, которыми нас так щедро угощал...
Нечего и говорить о фигурах по-настоящему известных, о том, как жили они в дни войны.
Кажется в 1942-ом, самом для Баку тяжелом из военных лет, на Бакинской киностудии работал известный режиссер Г. Александров. Жил он в гостинице «Интурист» вместе с женой, знаменитой Л. Орловой, и сыном Дугласом.
Тетя Ангелина, большая поклонница Орловой, познакомилась там с нею случайно. Познакомилась она и с матерью Орловой, которая жила в соседнем номере.
Супруги, занятые делами, редко бывали в гостинице, их непутевый сын, которого, спасая от фронта, пристроили на студию осветителем, также почти всегда отсутствовал, так как очень увлекался мотоциклом и носился по городу на своем «Харлее».
Поэтому мать Любови Петровны скучала в номере одна, частенько звонила в бухгалтерию и просила тетю забежать на минуту, чтобы «перемолвиться словом с хорошим человеком».
Несколькими годами позднее, когда я подрос, тетя рассказывала подробно об этих встречах. Она искренне симпатизировала всем этим людям и восторженно их воспринимала, вспоминала о них с уважением и восхищением.
Но всякий раз при ее рассказах мое внимание останавливалось на круге забот и интересов этой семьи в тяжелые военные годы, на той обстановке, которая их окружала.
Забот и огорчений у них было достаточно, но при этом все там было так, как будто войны не было вовсе.
Вот разве что город незнакомый, друзья остались где-то далеко, светомаскировка по ночам, да еще пообедать можно лишь в «своем» ресторане, в гостинице «Интурист», так как в ином месте либо вовсе не накормят, либо ничего съедобного не найдешь.
А в Интуристовском, куда «прикреплялись» все там проживавющие, кормили и во время войны отменно. Ибо жили в «Интуристе» люди, которые и тогда по-другому не привыкли.
Все мои сверстники хорошо и навсегда запомнили день Победы.
Окончания войны со дня на день, с часу на час ждали еще в последних числах апреля.
Радиоприемников ни у кого тогда не было. В первые же дни войны их приказали сдать на специальные склады и вернули только в 1946-ом.
Власти боялись вражеской пропаганды. Но во всех квартирах были установлены громкоговорители радиотрансляции, черные большие тарелки, которые вещали с 6-ти утра до 12-ти ночи.
Так вот, тарелки эти никто не выключал. Все, даже те, кто не должен был вставать на работу так рано, просыпались в первых числах мая в шесть утра под звуки нового гимна, исполнявшегося перед началом передач, и вслушивались в победные интонации голоса Левитана.
Вот-вот должна была закончиться война. Я уже знал, об этом рассказала мне мама, что Берлин окружен войсками Жукова и Конева и бои идут в самом городе. Падение Берлина связывалось у всех с концом войны.
Когда, наконец, рано утром радостную новость сообщили всем, я еще крепко спал.
Мама разбудила меня 9 мая в обычное время и сказала, что война закончилась, что мы победили.
Точно так же, как четыре года назад, в первый день войны, я лежал в той же самой комнате, в той же самой кроватке.
Только сетку давно убрали, а ноги мои упирались в спинку, так как за эти четыре года я сильно подрос.
И кроватка не казалась мне уже такой большой и высокой.
Во дворе и на улице было полно народу, так как 9 мая тут же объявили праздничным днем и люди на работу не пошли, либо вскоре, как мой папа, вернулись домой.
Из репродукторов неслись песни и марши вперемешку с победными приказами Верховного главнокомандующего.
А вечером состоялся салют с фейерверком, толпы людей заполнили центр и приморский бульвар.
Везде было много раненых в серых больничных халатах и пижамах, перевязанных и на костылях, которых в тот день отпустили в увольнение из многочисленных бакинских госпиталей, чего в другие дни никогда не делали.
Взрослые заговорили о новой жизни после войны, старались угадать, какой будет эта жизнь. Для меня же никаких вопросов не существовало, все было ясно и понятно.
Война закончилась, теперь наступают радостные и необыкновенные времена. Скоро мы поедем в Москву, в столицу, как ездил туда мальчик Почемучка, герой книги Бориса Житкова, скоро мы поплывем по Волге, как тетя Ангелина с дядей Степой плавали до войны.
Скоро мы поедем на Черное море, где бывали мама с дедушкой, где стоит лагерь «Артек», и где всегда так празднично и так весело.
Ну и совсем скоро, через несколько месяцев, я пойду, наконец, в школу, меня примут там в пионеры и я стану таким же смелым и достойным, как товарищи Тимура из гайдаровской повести.
А когда я вырасту, я обязательно стану военным. И если кто-то опять нападет на нас, то теперь уже я сам, как в фильме «Мы из Кронштадта», буду защищать свою Родину от врага.
Ведь я жил в самой счастливой, в самой свободной и в самой справедливой в мире стране, которая победила фашистов!
И был поэтому по-настоящему счастлив.
Примечания.
- ↑ Мудросское перемирие, ознаменовавшее поражение Османской империи в Первой мировой войне, было подписано 30 октября 1918 года на борту британского военного корабля «Агамемнон» в бухте Мудрос представителями Великобритании (как уполномоченными держав Антанты) и султанского правительства Османской империи. Мудросское перемирие привело к оккупации Константинополя и падению Османской империи.
Продолжение см. Часть II.