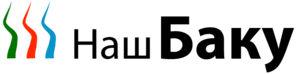Василий Болдовкин "Воспоминания о Сергее Есенине в Баку
Василий Болдовкин. Воспоминания о Сергее Есенине в Баку [править]
Мемуары В.И. Болдовкина не озаглавлены и не датированы. Название дано публикаторами.
Машинописный текст воспоминаний, подписанный автором, был предоставлен в свое время вдовой Болдовкина — Агриппиной Ивановной Болдовкиной (автограф неизвестен).
Полностью воспоминания не публиковались. Ссылка на них имеется в комментариях к Собранию сочинений в шести томах (Т. 6, М., 1980, с. 372). Отрывки воспоминаний были еще опубликованы Я. Садовским в статье «Рядом с Есениным», — газ. «Советская культура». М., 1978, 10 окт., № 81 и Г. Шипулиной в статьях «Зарождение «Персидских мотивов»» — газ. «Баку»», 1991, 24 сентября, № 184; «И чувствую сильней простое слово: друг». — «Тропы к Есенину». Специальный выпуск газ. «Молодежный курьер». Рязань, 1991, 26 декабря, № 76; «И Орел был в его судьбе». — газ. «Русский язык». Баку, 1991, 30 декабря, № 13.
В Баку после Тегерана[править]
Был март 1924 года [1] Вот уже несколько дней, как я приехал в Баку из Тегерана, где пробыл с января 1923 года. Что лучше дома? Что лучше бакинской <осени>, в особенности когда ты молод? Что лучше для стариков, чем встреча родного сына, который был где-то далеко-далеко на чужой земле, за кордоном? Задушевную родную семейную беседу прервал телефонный звонок. Звонил брат из редакции газеты «Бакинский рабочий».
— Знаешь, кто сидит у меня? Приехал из Тифлиса Сергей Александрович [2], и вот уже час, как мы беседуем. Я ему рассказал, что ты приехал из Персии как несколько дней.
С.А. Есенин и П.И. Чагин с членами литературного кружка при газете "Бакинский рабочий". (Баку. Апрель, 1925)
— Какой Сергей Александрович, что-то не могу сразу припомнить?
— Ну, наверное, брат, не припомнишь — Сергей Александрович Есенин-поэт.
— А-а! Сергей Есенин!
— Да-да, это не чета тебе. По стихам тебе до него далеко.
— Да я не собираюсь быть поэтом, а если и пишу малость [3], так для друзей, ну и девушек-невест, конечно.
— Ну, мы с тобой заболтались. Сергей хочет с тобой немедленно встретиться. Он бредит Персией. Сейчас Коля привезет его к нам. Я думаю, что и отец и мать ничего не будут иметь против, если он поживет у нас. Я надеюсь, что вы будете с первого же часа крепкими друзьями. После работы вечером я заеду.
Мать стала на столе наводить, как говорят, должный порядок, чтобы встретить гостя. Я вышел на балкон. Через некоторое время к парадному подъехала открытая машина. Шофер Коля Кругликов с вечно красным лицом (то ли от природы, то ли от потребления изрядного количества алкоголя), увидя меня на балконе, во весь голос закричал:
— Доставил благополучно, как приказано, никуда не заезжал.
Легко спрыгнув с машины, держа в одной руке небольшой несессер, в другой — изрядно помятую кепку, Сергей быстро вошел в парадное, и через несколько минут мы обнимались и целовались, как старые друзья, истомленные разлукой. Он поцеловал руку моей матери и назвал себя: «Сергей».
Его вьющиеся, цвета спелой пшеницы, волосы прядями спадали на лоб. Открытые голубые задумчивые глаза и очаровательная непринужденная улыбка говорили о жизнерадостности и сразу располагали к себе. Широкая, грузинского покроя мышиного цвета рубашка, расстегнутая в вороте и подтянутая узким восточным ремешком, складно сшитые «в бутылочку», тщательно отутюженные короткие (по тому времени модные) брюки, желтые ботинки «джимми» и серые носки сидели на нем изящно, говоря о хорошей фигуре, придавая его движениям полную непринужденность.
— Так вот ты какой красавец-джентльмен, совсем не похож на своего брата.
Глаза его немного сощурились, а лицо залила добродушная улыбка.
Сели за чай. Разговор сразу перешел на «ты».
— Узнал от Петра Ивановича, что ты на днях приехал из Тегерана, и днями опять уезжаешь в Тегеран. Я хочу поехать с тобой. Хочу посмотреть эту чудо-страну Востока. Я все же, несмотря на уговоры Петра Ивановича остановиться у вас, на всякий случай заехал в гостиницу «Новая Европа» [4] и взял номер. Вы уж меня простите, но я все же думаю, мне придется жить там, здесь рядом, всего через два дома.
— А ты и правда, Вася, красавец, как ты похож на мать! Мне Петр Иванович сейчас рассказывал, что ты пишешь стихи.
— Нет, Сергей, я так, забавляюсь этим делом в часы досуга, если попадает хорошая тема на злобу дня, да и то не для печати, а больше для друзей и … порой какой-нибудь сонет для девушки. Время у нас есть, я прочту их не раз, надоем, может быть, своей белибердой. А вот твои стихи, что последнее время ты печатал в «Заре Востока» я хотел бы услышать из твоих уст.
Чай остыл. Сергей отставил стакан.
— Может быть, бутылочку белого вина? У меня как раз есть «Саэро»!
— Правда, это лучше всякого чая.
— Да, у нас. Но не в Тегеране. В Персии чай — это божественный напиток, напиток богов.
— Ну, а я все же предпочитаю Бахуса.
Я разлил в бокалы светлое золотистое вино, мы чокнулись.
— Во имя дружбы, — сказал Сергей, — правда, за мной ходит отчаянная слава заправского пропойцы и хулигана, но это только слава, но не такая уж страшная действительность. Всегда почему-то получается так, что Есенин один в ответе.
Долив бутылку «Саэро», Есенин предложил пройтись по городу, посмотреть на море.
Мы вышли из дома и направились на приморский бульвар. С какой проницательной способностью осматривал он крепостную стену, здание «Исмаилийе» [5], ныне Академия наук Азербайджанской ССР, интересуясь датой постройки, зодчими. Его интересовало все, и я не успевал отвечать на его вопросы, а порой вопросы были такие, на которые я не мог ответить. Так, например: «А кто был последний хан в ханском дворце?»
— Ну, это мы спросим у Петра Ивановича, он, конечно, знает.
Побродив до вечера по городу и приморскому бульвару, по старой крепости, Сергей с жадностью интересовался памятниками старины. Знаменитая Девичья башня, старый дворец заинтересовали Сергея. Осматривая памятники старины, Сергей задавал мне множество вопросов о Персии. Я почувствовал, что Персия не дает ему покоя, тянет к себе.
Когда уже поздно вечером мы пришли домой, и здесь Сергей не давал мне покоя, и, о чем бы мы ни начали говорить, весь разговор переводил на Персию.
Устроившись на балконе, я ему рассказывал множество различных персидских легенд о мифических пери, рассказывал о городах Персии, в которых я побывал, о знаменитом тегеранском базаре с его лабиринтами, в котором можно блуждать и не скоро сумеешь выйти, а можно просто заблудиться. Типажи, заполняющие базар: вот по базару проходит несколько верблюдов, нагруженных различными тюками. Здесь и пряности, и шелк, и хна. Это какая-то часть караванов, прибывших из далекого Бендер-Бушира, из Багдада и Барсы, с заграничной снедью.
Как величественно и спокойно опускаются верблюды на маленькой базарной площади около бассейна, ожидая освобождения от груза. У больших лавок с величественным и довольным видом, неторопливо перебирая четки, стоят именитые купцы. Они с чисто восточной любезностью приглашают в свои лавки европейцев.
А вот, поджав ноги, укутанный в поношенную абу [6] , сидит на прилавке (в виде полатей) старец, неторопливо потягивая крепкий чай из маленького стаканчика. Перед ним, под двумя-тремя стеклянными колпаками насыпаны довольно большие кучки золотых монет: здесь и русские десятки и пятерки, империалы здесь и турецкие лиры, и английские соверены, здесь и крошечные золотые персидские пятигранники, здесь и бумажные персидские деньги различных провинций, здесь и тегеранские бумажные туманы. Старец упоен своим величием. Это — сарраф — меняла. Он меняет бумажные деньги различных провинций, он продает золотую валюту.
У магазинов, вернее, у лавок, толпами снуют женщины. Они под черными чадрами. Кто побогаче и модницы — под шелковой чадрой, с большими волосяными козырьками на лбу. Они похожи на ворон. Что поделаешь? По законам Корана, женщины должны быть закрыты.
А вот чеканное серебро: искусные мастера выбивают узоры на серебряных блюдах. «Хабардар!» (берегись!) — кричит табакеш, неся на голове целый сервиз дорогой посуды; он маневрирует среди базарной толпы, как хороший жонглер, совершенно не поддерживая руками столь дорогую ношу.
Уже ночь, Сергей же все больше и больше забрасывает меня вопросами.
— Вот, Сережа, ты не хотел сегодня пить чай, а чай в Персии это все. Если бы ты видел, с каким усердием и любовью в каждой чайхане готовят чай «чайчи». Под Бетераном есть дачное место Заргенде, там хозяин чайхане по имени Гудар — это действительно мастер своего дела. В душные летние вечера мы часто заходили к нему в садик, весь усаженный розами, пить этот чудесный напиток из маленьких стаканчиков, и с каким выражением лица, если бы ты видел, он принимал похвалу за свое мастерство. Мы, Сергей, здесь тоже на Востоке, и нам нужно полюбить чай так же, как можно любить девушек.
И так, далеко за полночь, шла наша беседа. С рассветом только мы ушли спать, а когда я утром проснулся, то застал Сергея за столом уже одетым и что-то писавшим. А через час, за завтраком, он читал «Улеглась моя былая рана…» [7]
Вот так рождались «Персидские мотивы»…[править]
И так мы стали друзьями. На протяжении почти двадцати дней [8] мы поздно вечером возвращались домой, а порой просто спасались от различных друзей, усаживались на балконе, и почти до рассвета шла наша мирная беседа.
— Ты знаешь, Вася, я хочу создать целый цикл стихов про Восток, про Персию [9] Про Персию старинную, древнюю, про Персию новую, такую, как она есть. [10] и мы, возможно, поедем вместе.
…И почти каждое утро из-под его пера выходило несколько стихотворений.
Обладая исключительной памятью, быстрой усвояемостью, Сергей творил в уме и фактически воспроизводил на бумаге почти готовое стихотворение. Очень мало было помарок и исправлений в его черновиках. И когда каждое утро он читал новые произведения, он читал их наизусть, почти не заглядывая в рукопись.
Вот так рождались «Персидские мотивы»…
Как-то, проходя по приморскому бульвару, нас обступила толпа лодочников, предлагая свои услуги прокатить нас на парусниках по Бакинской бухте. Пробираясь к лодкам, на одной из них Сергей увидел ее название «Пушкин».
— Сядем в эту.
Подросток лет двенадцати-четырнадцати с улыбкой подал Сергею руку и с ребячьей удалью втянул его в лодку. Отшвартовав ее от других лодок, мальчик натянул парус, и лодку понесло по бухте. Мальчик не сводил с Сергея глаз, не то он был зачарован кудрявыми светлыми волосами Сергея, не то считал необходимым отвечать на улыбку Сергея своей улыбкой.
— Ну, а как тебя зовут? — спросил Сергей.
— Мамед.
— Ловко ты управляешь парусом, не боишься, что утонешь, ведь это же море.
— Нет, это не море, это бухта. Море там, за островом Нарген.
— А как ты назвал свою лодку?
— Это не я назвал, это папа назвал. Ее зовут «Пушкин».
— Я прочел. А ты знаешь, кто был Пушкин?
— Знаю. Пушкин был мусульманин.
— А что он делал?
— Он ничего не делал, он писал стихи, много-много хороших стихов писал. Он был настоящий писатель.
— Я тоже пишу стихи, много-много пишу стихов, таких же, как Пушкин.
— Нет. Ты хоть и пишешь стихи, но ты все же еще не Пушкин. Пушкин был большой писатель.
Мамед улыбался. Улыбался ему в ответ и Сергей.
— Хочешь, Мамед, я прочту тебе свои стихи?
— Почему не хочешь? Хочу. Я люблю русские стихи.
И в течение почти часа, катаясь по бухте, Сергей читал, упоительно читал. Были два слушателя у него — я и Мамед…
Мы подъезжали к бульвару.
— Ну, Мамед, хорошие мои стихи, такие же, как у Пушкина?
— Хорошие, только грустные. Но все же ты не Пушкин.
Лодка пристала к берегу. Расплатившись с Мамедом, пошли по бульвару. Какое-то задумчивое выражение лица было у Сергея. Мы завернули, ни слова не говоря друг другу, на «Поплавок», и, возвращаясь домой довольно выпившими, Сергей сказал мне:
— А Мамед прав, я еще не Пушкин, Вася.
Но не всегда все проходило гладко и приветливо. Порой Сергей приходил поздно вечером, даже ночью, изрядно подвыпивши, а иногда и совсем пьяным. Он очень извинялся, что задержался с друзьями. В этом состоянии он еще больше внушал себе необходимость поездки в Персию и очень много фантазировал. Утром он, как всегда, садился за стол и работал часа два-три.
В нетрезвом виде энергии в нем прибавлялось, он не мог сидеть на месте, его что-то и куда-то влекло, он не терпел никаких возражений, много спорил, а порой просто буйствовал. По утрам он не раз раскаивался, что «переложил», извинялся. Его виноватая улыбка мгновенно подкупала, и все как будто продолжалось по-хорошему.
Мой старый отец не раз журил его за бесхарактерность в отношении употребления спиртных напитков, но это действовало лишь на то время, когда Сергей был в нашем доме, с нами. Попадая же в круг «почитателей», он не выдерживал характера и, как ни старался себя побороть, эта трагедия выпить так и осталась с ним до конца его жизни.
Сколько светлых хороших дней и ночей провели мы с ним вместе, и эти дни не прошли бесследно, а были творческими днями Сергея. Он почерпнул и создал, если можно так выразиться, фундамент для «Персидских мотивов».
Оформление поездки в Персию затягивалось, да и сам Сергей выражал стремление к поездке только вечерами и ночами, а когда днем нужно было оформлять документы, то он откладывал это изо дня в день. Так и протекали день за днем. Я получил телеграмму о срочном выезде в Тегеран. Сергей же свою поездку не оформил, и мы расстались. На пристани он меня заверял, что обязательно через несколько дней выедет в Персию.
В Тегеране, в беседе с нашим полпредом Шумяцким, последний сожалел, что со мной не приехал Есенин, и даже пожурил меня за то, что я поспешил выехать в Тегеран, не дождавшись оформления документов Сергея.
В Персию Сергей не приехал. Отец писал мне, что Сергей раздумал ехать в Персию, и сетовал на меня тоже, что я не дождался оформления его документов. Из тех же писем я узнал, что вскоре после моего отъезда он уехал в Тифлис, а потом в Батум.
Прошел почти год. Наступил май 1925 года. На пароходе я возвращался из Персии в СССР [11] В утренней бакинской дымке пароход подходил к причалу. На пристани небольшое количество встречающих людей. Каково же было мое удивление, когда среди встречающих я увидел улыбающееся лицо Сергея, но уже не такое холеное. На нем была надета желтая вельветовая куртка, которая еще больше придавала желтизны его лицу.
Мы крепко расцеловались и поехали домой. Посыпались вопросы, рассказы. Сергей говорил о своей поездке в Тифлис и Батум, говорил о грузинских поэтах, особенно тепло он отзывался о Паоло Яшвили. Рассказывал о тифлисских похождениях, о ресторане «Аветика», где он в кругу грузинских писателей читал выдержки из «Демона» Лермонтова, и когда он в шутку произнес слова: «Бежали робкие грузины», то грузинские товарищи на него немного обиделись.
— Не хотел я той обиды, я только хотел пошутить, — говорил Сергей с мальчишеским задором.
Рассказал он, как после «Аветика», где он поставил свою подпись в книге особых посетителей (а там имелась такая книга, где стояли автографы всех выдающихся писателей XIX—XX веков, посещавших Тифлис, а если посещаешь Тифлис, то должен обязательно посетить и «Аветика»), под утро он вместе с грузинскими товарищами ходил по Эриванской площади, и они ради мальчишеского баловства бросали фуражки друг в друга и в здание Государственного банка. Задыхаясь, он рассказывал о ресторане «Аветика», где цоцхале (мелкую рыбу) прямо из аквариума живую бросали на горячую сковороду.
— А Батум с его магнолиями! Я почти каждый день бывал на пристани и встречал пароходы из-за границы, — и лицо Сергея как-то мрачнело.
Мои расспросы, кого же он встречал, оставались без ответа. И только через несколько дней он мне поведал свою тайну:
— Я, Вася, знаю, что она не может приехать, а все же ждал. Я ждал Анну и творил поэму. Я тебе ее прочту. Это самое лучшее, что я написал, а также писал и Петру из Батума. Только пусть это будет нашим секретом. Ты понимаешь — знаю, что этой встречи не может быть, а все же меня тянет и тянет к пароходам, с какой-то несбыточной надеждой.
— Весной я приехал в Баку, немного здесь расшалился. Отец твой здорово ругает меня, да и мать журит. Отца я теперь зову не Иван Иванович, а Иван-Заде <«сын Ивана»>, но мы с ним все же большие друзья. Я получил воспаление легких, оттого я так и хриплю. Лежал в больнице [12] Отец часто приходил ко мне, и мать — я их очень люблю. — И Сергей с жаром поцеловал отца и мать.
— Этот дом для меня родной дом, жаль только не было тебя, а то нам вместе было бы лучше. Когда я вместе с тобой — я не такой хулиган. Ты, Вася, послушай, наверное, ты еще не читал. — Он встал и начал читать:
Есть одна хорошая Песня у соловушки… В конце он опустил голову и почти шепотом произнес:
А теперь вдруг свесилась,
Словно не живая.
— Я это писал в больнице, думал, умру. Послезавтра я еду в Москву, а завтра мы с тобой будем весь день вместе.
Далеко за полночь длилась наша задушевная беседа. Я ему рассказывал, как меня ругал Шумяцкий за то, что я приехал без него. Сергей сказал:
— Когда мы встретимся в Москве, то обязательно повидаем Шумяцкого.
И так под говор, под хрипловатый голос Сергея, на том же самом балконе, где рождались «Персидские мотивы», мы уснули, не раздеваясь. Сколько новостей, сколько впечатлений — всего не перескажешь.
Май 1925 года[править]
Утром искупались, побрились, выбросили рыжую вельветовую куртку и старую кепку Сергея. Ему понравилась моя соломенная шляпа «тиролько» [13] Примерил — как раз впору, к лицу идет.
— Носи, Сергей, и пойдем покупать кепку для меня.
Часа два-три ходили по городу, пошли на бульвар. Встретились беспризорники. Завязался разговор. Один из беспризорников:
— Братва, вот тот дядек, которого мы поперли из-под котлов.
— Здорово, дядя.
Сергей дает им руку, вынимает пять рублей, ребята моментально разбегаются.
Сидим на приморском бульваре. Сергей рассказывает:
— Узнали меня ребята. Грех со мной получился такой: иду домой, не помню откуда, так как был изрядно выпивши. Поздний вечер, часов десять-одиннадцать, около вашего дома, на углу, стоят котлы из-под варки кира (киром покрывают в Баку крыши), смотрю, котлы не топятся, а из-под котлов светится огонь, горит огарок свечи. Нагнулся, вижу — ребята, все черные, только зубы блестят.
— Что надо?
— Отвечаю: я — Есенин, хочу с вами посидеть под котлом.
— Деньги есть, дядя? А то мы сегодня без удачи, не ели целый день.
— Порылся в карманах, говорю: нет денег у меня, ребята. Снимаю пиджак и говорю: продайте, купите хлеб и прочую еду. Один из парнишек, что пошустрее, быстро свернул мой пиджак и стал вылезать из-под котла, чтобы осуществить предложенную мной операцию, но в это дело вмешался паренек постарше, видно, главный из коновод.
— Митька, ну-ка дай сюда пиджак.
-С чувством своего достоинства, не спеша, осмотрел мой новый коверкотовый пиджак, повертел его в руках и передает его мне.
— Не надо нам, дядя, твоего пиджака, на, возьми и иди поищи себе другой котел, ты, видно, такой же бездомный, как и мы.
— Так и выгнали меня из-под котла. А теперь узнали. Когда я пришел домой и рассказал это твоему отцу, он сказал:
— Эх, Сергей, а ребята-то ведь правы, нужно иметь свой угол, свой дом.
Сергей задумался. Пошли домой. По дороге зашли в фотографию Брегадзе. Сергей во что бы то ни стало хотел сняться со мной.
— Когда теперь увидимся, не знаю, а как поедешь в Москву, захвати с собой эту фотокарточку. Завтра ведь мы уже расстанемся, а когда встретимся?
Снялись. Это было 24 мая 1925 года. Сергей оформил свои дела в редакции. Наконец, дома. Вот уже второй день как в кругу своих домашних после годовой разлуки.
Отец рассказывает, что Сергей последнее время очень много пьет, редко приходил домой ночевать и заметно начал опускаться. Влюбился в эту вельветовую куртку и уже месяц ее не снимает. Здесь нет человека, который бы с ним мог проводить время. Петр занят и день и ночь, а все эти временные знакомые Сергея таскают его по гостям и ресторанам. Хорошо, что он едет в Москву, там хотя бы Галя повлияет на него.
Вечером, часов около 10 позвонил ко мне брат.
— Ты, конечно, знаешь лучше меня, что Сергей завтра уезжает. Я говорю из типографии. Сейчас Сергей пошел ко мне домой, а семья на даче, мы договорились сегодня ночью посидеть. Ты иди ко мне и захвати, что нужно, ну, приготовь нечто вроде ужина, а то Сергей будет один скучать и, чего доброго, опять очутится в какой-нибудь компании.
Не теряя времени, я зашел в магазин, накупил всякой снеди и, конечно, прихватил несколько бутылок «Напареули» и «Саэро» и, нагруженный, явился в дом брата. Только после нескольких звонков Сергей с заспанными глазами открыл дверь.
— Я час уже здесь хозяйничаю и решил поспать. Хозяев нет, скучно.
Мы приступили к распаковыванию покупок. Он с задором рассказывал, как в Балаханах проводил Первомай, как горячо его приветствовали нефтяники и ему просто жаль уезжать из Баку.
— Но скоро, летом, я опять приеду сюда в Мардакяны, к Петру Ивановичу на дачу.
Я накрыл на стол, хлопотал на кухне с каким-то жареным. Сергей сидел за письменным столом. Позвонили из типографии, у телефона метранпаж Качурин.
— Кто? Вася? Качурин? Это я, Сергей, Петр там скоро освободится? Уже сверстали? Передай Петру: «Прощай, Баку» я посвящаю Василию Ивановичу Болдовкину. Алло, Петр? «Прощай, Баку» я посвящаю Василию, прошу тиснуть. Вовремя? А то через полчаса было бы поздно? Ну ничего, Качурин пусть не обижается, обязательно вставит посвящение. Ждем.
Часов около двух ночи приехал брат и Качурин. Качурин держал свежий, еще пахнущий краской, оттиск газеты от 26 мая 1925 года.
Сергей стал читать «Прощай, Баку» и крепко-крепко поцеловал меня.
— Хорошо! Это посвящаю тебе. Жаль только, что не вместе едем в Москву.
В эту ночь Сергей был очарователен. Вчетвером провели мы эту ночь до рассвета. И я решил бросить все свои дела и ехать с Сергеем в Москву.
Решено — сделано. Итак, «Прощай, Баку», а друг не кивает головой, а едет вместе с Сергеем.
В эту ночь Сергей был неподражаем. Экспромты с его уст сыпались в большом изобилии. Он был рад, что уговорил меня ехать с ним в Москву, а фактически моя поездка имела цель — не давать Сергею в дороге много пить.
Простуда Сергея дала себя знать, он охрип и все время твердил, что у него начинается горловая чахотка.
— Вася, ты знаешь, как я болен! У меня туберкулез горла — горловая чахотка, а это значит, что мне максимум полгода жить.
Конечно, это было далеко не так, заключения врачей были противоположны, но самовнушение Сергея порой делало его жалким.
Наступило утро 25 мая 1925 года.[править]
Поезд Баку—Москва отходил в 13-00, но до отхода поезда нужно было сделать множество дел. Во-первых, предстояла большая работа по сбору Сергеевых вещей. Правда, их было не так много, но они были рассеяны по нескольким адресам. Эту миссию я взял на себя.
Сергей поехал в редакцию «Бакинского рабочего» оформлять свои дела. Билеты достать поручили товарищу; договорились встретиться у меня на квартире в 12-00, откуда поедем на вокзал. Времени на все дела было явно мало. Стрелки часов неумолимо сокращали время до отхода поезда.
Около 12 часов я был уже готов к отъезду. Жду Сергея. Звонок. Открываю дверь — передо мной незнакомый шофер.
— Василий Иванович, я повезу Сергея Александровича на вокзал. Петр Иванович прислал машину.
Я ответил, что придется подождать, так как Сергея еще нет. Через пять минут еще звонок. Открываю дверь — передо мной другой шофер.
— Василий Иванович, здравствуйте, я за вами и на вокзал. Я повезу Сергея Александровича на вокзал. Петр Иванович прислал машину.
— Но ведь машина уже есть.
— Нет, нет, Петр Иванович прислал меня.
Я начинаю беспокоиться. Звоню в редакцию, мне отвечают, что Сергей уехал в половине двенадцатого. Разыскиваю по телефону брата. Нахожу его в ЦК, говорю, что Сергея нет ни в редакции, ни дома. И потом, почему ты прислал три автомашины, зачем они? >br>— Я машин не присылал, это все наши шоферы самовольно уехали, чтобы проводить Сергея. Он, несомненно, где-то у твоего дома, советую посмотреть в заведении Деткомиссии, что неподалеку от тебя. Советую пройти посмотреть. Времени до поезда остается мало.
Я быстро спустился с лестницы, прошел два квартала и на углу улиц Фиолетова и Джапаридзе было кафе с одним залом.
Открываю дверь и слышу мотив лезгинки, играют скрипка и рояль. Зал пустой. Под звуки наурской Сергей хриплым голосом поет «За окном гармоника» [14] За столом сидит шофер Коля Кругликов, рядом стоит директор кафе Довленидзе.
Увидев меня, Сергей виновато садится на стол, стараясь спрятать почти выпитую до дна бутылку из-под коньяка, и в это время наливает лимонад.
— Прости, дорогой мой Вася, мы с Колей заехали выпить лимонаду и встретиться с товарищем Довленидзе.
При неловком движении левой руки, перевязанной черной лентой на сухожилии у запястья (вена у Сергея была когда-то перерезана), бутылка из-под коньяка упала на пол.
— Ты не думай, что мы пили коньяк, эта бутылка стояла на столике, когда мы пришли. А товарищам музыкантам очень нравится моя песня. Ну, едем.
Тепло простившись с Довленидзе и музыкантами, Сергей, уже немного покачиваясь, в сопровождении Коли вышел из кафе. Сели в маленький «фордик» и через несколько минут были у дома, а у парадного ждут еще четыре автомашины.
Забежали домой, простились с отцом и матерью и поехали на вокзал. Вез нас Коля Кругликов. Две машины мне удалось отправить по домам, а две автомашины так и следовали за нами до вокзала. На вокзале масса друзей, много провожающих. Поезд отправлялся через пятнадцать минут. Не могу оттянуть Сергея от друзей; он весел, остроумен, немного подвыпивши. Хожу за ним по пятам, боюсь, как бы Сергей не поддался соблазну. Это он чувствует, порой смущенно смотрит на меня. Вот какая-то группа открыла несколько бутылок «Абрау-Дюрсо» и «Багдади».
— Ну, Вася, на расставание с бакинскими друзьями можно и выпить по бокалу шампанского, и в вагон.
— Да, Сергей, в вагон пора, поезд нас ждать не будет.
Бокалы опустошены, поцелуй, масса, масса поцелуев. По-моему, и знакомые, и совершенно незнакомые целовали Сергея.
— А телеграмму? Вася, скорей, я уже написал и чуть было не забыл отправить.
Я взял у Сергея клочок бумаги, подошел к окну телеграфа и быстро переписал на бланк: «Москва, Брюсовский пер., 2, Бениславской. Будем Москве вместе с братом Чагина, приготовь комнату — Сергей» [15] Подлинник телеграммы положил в карман, подошел к Сергею, говорю: «все в порядке», — и направился к вагону.
Чувствую определенное облегчение — мы на площадке вагона, слышу свисток главного кондуктора, гудок паровоза, поезд медленно отходит от перрона. Сергей отвечает на десятки машущих рук:
— Прощай, Баку![править]
Мы прошли в свое купе.
В вагоне не так много народа, много мест свободных, в соседнем купе возвращались со съемок из Средней Азии экспедиции киноартистов. Быстро познакомились. В числе артистов нашей попутчицей оказалась известная в то время киноактриса Ольга Третьякова. Попутчики были интересные. К нам в купе приходило много людей, нашлись среди них знакомые Сергея по Батуми.
Начались воспоминания о батумских похождениях и веселых днях с грустными песнями. Сергея тянули в вагон-ресторан, и никакие уговоры друзей на него не действовали. Я его ни на минуту не выпускал из вида. Моими союзниками были товарищи артисты, в частности, Ольга Третьякова, которая занимала нас интересными беседами.
Так прошли сутки, дорога, масса впечатлений. Но на другой день товарищи увлекли Сергея, и никакая сила не могла его вырвать из вагона-ресторана, и только поздно вечером крепко пьяным его привели в купе.
Как только открылась дверь, слышу Сергей хриплым голосом поет:
— Дорога в жизни одна, ведет нас к смерти она.
Если бы кто знал, как трудно уложить спать в таком состоянии Сергея. Откуда появлялось столько энергии, экспромтов, импровизации!.. И только далеко за полночь «буйная головушка» его склонилась на подушку. Он уснул, как казалось, крепким сном. Я открыл окно, спать не хотелось. Поведение Сергея еще больше отгоняло сон. Через туалет я вышел в соседнее купе, еще не спали, обсуждали «трагедию» Сергея. Незаметно текли ночные часы; поезд с бешеной скоростью мчался в темноте по степным просторам.
Вдруг — толчок, шипение тормозов и поезд стал. Не понимая, в чем дело, мы вошли в коридор вагона. В наш вагон бегут железнодорожники с фонарями. В эту минуту открывается дверь нашего купе, заспанная голова Сергея виновато смотрит на служащих. Взор его остановился на мне.
— Вася, а я думал, ты упал в окошко, смотрю — одеяло и простыню раздувает ветер, а тебя нет, ну, я и решил остановить поезд, нажал ручку.
Железнодорожное начальство быстро восстановило порядок. После десятиминутной стоянки поезд тронулся, а главный кондуктор и начальник поезда сели писать протокол: опоздание курьерского поезда, необоснованная остановка, пользование стоп-краном и пр. и пр. Штраф. Штраф — 50 рублей. Подпись — Есенин.
Сергей протрезвел, виновато улыбается. Главный говорит, что утром в Харькове нужно платить штраф. Сергей несколько раз старается объяснить свою оплошность, и получается каждый раз по-разному: то он случайно дернул стоп-кран, расположенный над его головой, то потому, что товарищ, т. е. я, выпал в окно и он это видел и решил остановить поезд, то он проснулся и ему было очень жарко, он снял пиджак и повесил его на кран, то он думал, что это просто ручка-автомат открывающейся двери купе, и много-много прочих небылиц. Но спорить не приходилось. Нужно было платить штраф. Порядок есть порядок.
Все как будто бы успокоилось. Железнодорожное начальство ушло с пространным актом с десятками подписей свидетелей, подписью самого виновника.
Поезд прорезал рассвет с еще большей скоростью. Через несколько часов и Харьков. На одной из больших станций недалеко от Харькова к нам в вагон входит паровозная бригада. Замасленные спецовки, замазученные руки и лица. В руках у них тот самый акт, который несколько часов назад составляли железнодорожные мужи.
— Кто тут Есенин Сергей Александрович?
Сергей виновато улыбнулся.
— Я понял. Вы, наверное, за штрафом пришли? Я же платить не отказываюсь.
— Нет, нет, не беспокойтесь, я машинист поезда и до Харькова нагоню все упущенное время. Ради вас, Сергей Александрович. Мы узнали, что виновником, дернувшим стоп-кран, был поэт Есенин. Так вот, мы посоветовались, решили нагнать и почти уже нагнали все простойное время. Взяли у главного акт и принесли его вам, тов. Есенин, решили избавить вас от штрафа. Штраф, конечно, ерунда. Но ведь это своего рода позор.
Машинист застенчиво передал акт. Сергей взял, порвал его. Крепко пожал всем руки, машиниста расцеловал.
— Только, Сергей Александрович, чтобы это было в последний раз, а уж мы ради вас нагоним. Бывайте здоровы. Вот мы и познакомились. Читать ваши стихи — читали, а теперь и с самим познакомились.
Сергей застенчиво посмотрел им вслед.
— Спасибо, спасибо.
…И до самой Москвы ни один из батумских товарищей уже не смог его увлечь и склонить к Бахусу. Перед Москвой Сергей нервничал и приводил себя в порядок, даже часто пудрился.
Душевно распрощались мы со своими попутчиками, и в знак дружеского внимания Ольга Третьякова преподнесла нам несколько своих фото в различных ролях с искренними душевными надписями.
Приветливо встретили нас дома в маленькой комнате Галя Бениславская и сестра Сергея Катя. Сколько рассказов, сколько смеха!
Сергей не мог сидеть и через час он меня уже знакомил в редакции «Красная новь» с товарищами Воронским, Василием Казиным. Восхищался поэмой Казина «Лисья шуба и любовь». Нанесли визит Всеволоду Иванову. Он был один, жены не было. Всеволод Иванов ждал первенца. В тот же день в Союзе он меня познакомил с Иваном Касаткиным и Клычковым, приехавшим из деревни Тверской губернии, как он говорил, «после изрядно выпитого огуречного рассола».
Вечером в гостинице «Националь» встретились у тов. Лашевича [16], были там Воронский, К.Кагонерова, Правдухин, Сейфуллина и еще несколько товарищей.
Сергей читал свои последние стихи, «Анну Снегину». Из 30-градусной в то время Московской водки делали 40-градусную с добавлением энного количества привезенного нами из Баку спирта. Но много Сергей не пил. Поздно вечером мы тогда вернулись домой.
На другой день опять друзья: Сахаров, Наседкин и Анна Берзина — она большой друг Сергея. Встретил я у него и бакинского поэта Костю Мурана. С Анной Берзиной мы очень подружились, она расспрашивала меня о жизни Сергея в Баку. Придумывала множество вариантов — как предотвратить трагедию Сергея, как отлучить его от злого порока — пьянства. Не раз она мне говорила, что это погубит Сергея.
Сергей любил ходить к Берзиной на самый высокий этаж в Гнездиковском переулке. Часто мы играли в этом доме на биллиарде, а потом поднимались к Анне.
В Константиново[править]
…Все новые и новые друзья. Мы у Георгия Якулова. Граммофон наигрывает модные в то время фокстроты, Сергей танцует — с кем? — с фокстерьером Якулова!
В один из вечеров направились большой компанией в театр имени Мейерхольда. Приветливо нас всех встретил Всеволод Мейерхольд, усадил всех во второй ряд. Шел «Мандат». Старушка молится перед патефоном, пластинка накручивает какое-то богослужение. Сергей заспорил с Павлом Сухотиным что за псалом. Один говорит: от Марка, другой — от Луки. Публика в зале возмущается. Пришлось уйти.
Дни шли. Все новые для меня, а для Сергея старые друзья. Сколько споров, сколько одобрения! Мы на Малой Дмитровке у какой-то поэтессы. Муран в восторге от ее стихов, Сергей сдержанно улыбается. На его лице чувствуется скука.
Незадолго до Троицына дня <7 июня> из деревни Константиново, родины Сергея, приехали его двоюродные братья. Приехали звать на свадьбу. Двоюродный брат (кажется, Юрий [17] женился.
— Приезжайте все, чем больше людей, тем лучше. Лошадей вам вышлем на станцию, штук пять троек, быстро докатите к нам.
Два дня шли уговоры, и только после согласия Сергея братья уехали домой. Шли приготовления и в Москве. Вот в одно июньское утро Сергей мне сказал, что сегодня едем в Константиново.
— Увидишь моего деда, Вася, которому я прислал из Батума письмо. Занятный старик.
…Часов в девять утра, за два-три дня <за день> перед Троицыным днем, мы сидим на Сретенке в пивной, вход с угла, с какого-то переулка. Это место сборов. Одного столика явно мало, подставили другой. Пиво,сушки, раки. Девушка Леля, как ее все называли, с улыбочкой подает поднос за подносом. Вот подошла пара — один рыжий и с ним хорошенькая молодая женщина. Они извиняются, что не могут поехать. Вот подходят еще и еще, в руках у всех большие белые корзинки — прямо из гастрономических магазинов. Василий Наседкин, «организатор масс», берет на себя обязанность достать билеты. Поезд отходит с Казанского вокзала, он уезжает и наказывает мне, чтобы не опоздали.
Проходит час, кажется, все в сборе. Больше ждать нельзя. ... и мы отправляемся на вокзал.
Встречаем Наседкина. У него что-то много билетов в руках, он озабочен. Оказывается, поезд товарно-пассажирский, ехать придется в товарном вагоне. Нужно купить свечи, выбрать вагон со скамейками.
Второй звонок. Подавая друг другу руки, поднимаемся в вагон. Сергей, Наседкин, Ив. Старцев, Сахаров, Муран, Галя Бениславская, Леличка, Катя, еще несколько человек, фамилии которых просто не помню, гармонист — заполнили вагон; корзины, свертки…
Третий звонок, глашатай со звонком из зала выходит на перрон:
Вот и станция Дивово — темная, неприветливая от прошедшего только что большого дождя, грязная и холодная. Поезд отошел. Пробиваемся во мраке к избам «на огонек». Чайная. Это хорошо. Весь день ехали без еды, пора и закусить. Составляются столики, говор, земляки тепло встречают Сергея. Вошли и константиновские лихие парни, навеселе.
— Долго ждать приказали. Вы пока здесь перекусите, а мы будем запрягать. Два часа ждем, пришлось лошадей распрячь, подкормить. Как малость подзаправитесь, так и поедем.
Лил проливной дождь. На дворе было сыро и прохладно. Теплота чайной располагала ко сну почти всех, только Сергей был очень подвижен и весел. Он весело поздоровался с земляками, входящими в чайную, кое-кто из них были его друзья с детских лет. Мимолетные воспоминания, дружеские шутки. За окном забренчали бубенцы подъезжающих шарабанов, да и все запасы чайной — колбаса, хлеб, водка и наливки — были съедены и распиты. Все говорило за то, что пора двигаться дальше.
— Скажи, друг, что это такие плохие запасы у вас в чайной, даже водки нет, — обратился Сергей не то к хозяину чайной, не то к заведующему, стоящему за прилавком.
— Да она же слабая, тридцать градусов, много не держим. «Он» куда крепче и его больше у нас тут уважают.
— Я вас про водку спрашиваю.
— А я отвечаю: самогон, говорю, крепче.
Поняли друг друга, посмеялись, пожали руки и пошли усаживаться по бричкам. Дождь не переставал. Едем по полям в темноте, дорога — сплошная грязь, слева и справа ржаные поля. Укрываемся чем только можно, вытаскиваем половики из-под ног и спасаемся от холода и дождя. В ночную темноту улетают звуки бубенцов. С нетерпением ждем Константиново.
Почти после трех часов пути в темноте вырисовываются силуэты деревьев, слышится вдалеке собачий лай — это Константиново. У большого дома остановка. Это дом Есениных.
Заходим. Горящая лампа «молния» освещает большую просторную комнату. Отец, мать, сестра Шура: объятия, поцелуи. «Приехал!»
На свадьбе перезнакомились со многими, здесь и родственники Сергея, здесь и его старые друзья. Получили много приглашений. Сергей рассказывал о своих былых проделках. Мамаша готовила завтрак, кое-кто не выдержал бурной ночи и пошел отдыхать в старый дом.
Нам с Ив. Ив. Старцевым нужно было быть на другой день (после Троицы) в Москве. Сергей уговаривал не уезжать, но после долгих доказательств уступил. (Мне нужно было ехать в Баку.) Отец Сергея пошел за подводой. Этот завтрак был нашим прощанием. Сергей давал мне наказы — что нужно кому передать в Баку.
— Скажи отцу и Петру Ивановичу, что в июле или августе я обязательно буду в Баку, приеду и в Мардакяны. А будешь в Мардакянах, передай привет соседу по даче — Дадашу Буният-Заде [18]
Он начал рассказывать всем, как в Мардакянах мы были на даче Совнаркома, о своем знакомстве с тт. Газанфаром Мусабековым, Солтаном Меджид, Эфендиевым, Каракозовым, Дадашем Буният-Заде, Рухуллой Ахундовым [19]
— Я много им читал своих стихов, и они им очень понравились. Верно я говорю, Вася?
А в заключение сказал:
— Обязательно приеду в Мардакяны на море, а потом, может быть, и поеду в Персию.
Не мог он в Константинове забыть про Баку, и здесь его снова тянуло на Восток.
Расцеловавшись со всеми домочадцами — дедом, отцом, матерью, сестрами, и дав обещание снова приехать в Константиново, я вышел на улицу. На подводе уже разместились и ждали меня Ив. Ив. Старцев и девушки Катюша и Леля, та самая, которую мы забрали на свадьбу из пивной на Сретенке. Тронулись. Сергей махал вслед уезжающей подводе и кричал:
— Из Баку приедешь обязательно ко мне.
Через несколько минут колосившаяся рожь уже закрыла деревенскую улицу и саму деревню. Я покидал родные места Сергея Есенина.
Встреча в Москве[править]
Примерно месяца через полтора <через две недели> я вновь вернулся в Москву. Прямо с вокзала поехал в Брюсов переулок, к Галине Бениславской. Но, увы, Сергей там больше не жил. Галя сказала мне, что он женился и дала его новый адрес. Через несколько дней я посетил Сергея. Он жил в Померанцевом переулке. Сколько было восторгов и его воображений, когда мы сидели и беседовали о Баку. Он вспоминал и проведенный в Балаханах первомайский праздник, вспоминал, как мы с ним спали на балконе.
— А ведь на этом балконе и зародились «Персидские мотивы», помнишь, Вася? Мы скоро поедем с Соней в Баку. Я, Соня, обязательно тебя познакомлю с Иваном Ивановичем, отцом Петра Ивановича, занятный он человек, опять будет ходить около меня и говорить: «Тише, Сережа, ты потише». Нам нужно с тобой, Вася, поехать к Шумяцкому, ты хотел меня с ним познакомить, он ведь долго был полпредом в Персии.
— Лет около трех.
— Хочу обязательно с ним встретиться.
— Ну, что ж, — отвечаю я, — как-нибудь поедем к нему, он будет очень рад. На днях должен приехать в Москву Петр, он его хороший приятель, вот все вместе и поедем.
Через несколько дней приехал в Москву брат, и каждый день мы встречались с Сергеем. В один из хороших солнечных московских дней катались на речном трамвае Савкин, Яковлев[20], Сухотин и брат.
В одну из суббот после работы мы поехали в Малаховку, на дачу к Б.З. Шумяцкому[21] Вечерело. Сидели на веранде, пили чай. Оживленная беседа. Но Сергею и брату как-то было не по себе.
— Борис Захарович, чай да чай, — говорит брат, — уж очень холодный напиток.
— Нужно бы чего-нибудь погорячее, а то вечер довольно прохладный, — говорит Сергей.
Шутка за шуткой, Борис Захарович говорит:
— Я-то человек непьющий, в доме горячих напитков не держу. А вам поделом, нужно было бы предупредить о своем посещении, здесь не город, скоро не найдешь.
Старушка-няня, хлопотавшая за столом, лукаво улыбнулась и говорит:
— У меня есть немножечко, чем попотчевать гостей.
Сергей вскочил со стула, взял няню под руку и стал с ней шушукаться. Через минуту он с ней пошел в ее комнату и явился оттуда сияющий с бутылкой какой-то настойки, не то «перцовки», не то «дубняка».
— Прямо из-за образов святых вытащил. Вот и влага, которую воспел Хайям.
Беседа пошла более оживленно. Уже за полночь. Хозяева оставляют нас на ночевку, вряд ли мы успеем к поезду, а первый поезд в пять часов утра. Все же прощаемся. Пьем на посошок. Лидия Исаевна, жена
Б.З. Шумяцкого, просит написать что-нибудь на память. Сергей пишет четыре строчки и поднимает бокал.
— До свидания, спасибо за проведенный вечер.
А теперь с любовью братскою
Пью за Лидию Исаевну Шумяцкую,
За чай без обеда
И мужа ее — бывшего полпреда [22]
Прощаемся и всей ватагой идем на вокзал, но, увы, поезд будет только в пять, четыре часа где-то нужно коротать. Свежо. Ходим по Малаховке, к Шумяцким идти неудобно — поздно. Разыскиваем писателя Тарасова-Родионова, вот как будто бы его дача. Кричим с дороги через палисадник. Кто-то выходит, спрашиваем, нет, не здесь. Обошли несколько дач, пока не получили от одного почтенного старца хорошую отповедь за беспокойство. Натолкнулись на какой-то дом отдыха, одна молодежь, не спят. Завязываем с ними беседу, хотим потеплее устроиться, хотя бы провести ночь под крышей (накрапывал дождь), но не удается. Молодежь принимает нас в штыки, пришлось ретироваться.
Куда? Ночь, дождь, холод, сырость. Хотя бы под крышу»! Идем к даче Шумяцкого. Не будим хозяев, располагаемся на террасе. Проспав часа два, так же тихо покидаем веранду и идем на вокзал.
Через несколько дней Сергей уехал в Баку[23] Перед отъездом мы договорились встретиться на вокзале. У меня был несессер Сергея, который он забыл в Баку, я должен был его отдать. По каким-то причинам я на вокзал опоздал и с несессером вернулся домой. Этот несессер, как говорил мне Сергей, ему подарила Айседора Дункан.
— Ты его мне, Вася, принеси, в дороге нам будет удобнее с этой штукой. (Так этот несессер до сих пор находится у меня.)
Приехал Сергей в Москву примерно в сентябре-октябре27. Перед октябрьскими праздниками я зашел как-то к нему. С ногой у меня было плохо, старая рана не давала покоя. Долго сидели мы с ним и перебирали в воспоминаниях прошедшие дни.
— Помнишь, мы с тобой снимались в Баку, а где же карточки?
— Я совсем выпустил это из головы, когда был в Баку, да и ты почему не взял их? — ответил я.
— Забыл так же, как и ты, а интересно было бы взглянуть — каковы мы с тобой на фотографии.
Он мне читал новые его стихи, читал и «Черного человека».
— Но я его не выпускаю, буду еще много-много над ним работать.
При уходе он мне подарил несколько своих изданий: «Персидские мотивы», «Избранное», «Песнь о великом походе» — «Милому Васе Болдовкину в знак дружбы. С. Есенин», «Милому Васе Болдовкину с любовью».
В конце ноября я снова посетил его. Встретив, он меня изрядно выругал, что я так долго не был.
— Я уже написал Петру на тебя жалобу, что ты долго не был, но знаю, что ты где-то лежал в госпитале. Не дает, видимо, покоя тебе нога.
Сергей показался мне осунувшимся, голос его хрипел до шепота.
— Чахотка у меня. Вася, наверное, начинается. Нездоров я очень.
Я ему рассказал о своих планах, что я опять, наверное, поеду в Персию через месяц или два. Сергей просветлел.
— Ну, в этот раз я обязательно поеду с тобой, ты мне только скажи, когда поедешь. Петр Иванович, наверное, в первых числах декабря будет в Москве, вот мы и договоримся. Теперь ты послушай, я уже переделал «Черного человека».
Он стал читать его мне, голос был глухой и хриплый:
…Я в цилиндре стою, Никого со мной нет. Впереди лишь разбитое зеркало[24]
Последняя моя встреча с ним была на улице Белинского, около гостиницы «Париж». Это было числа 15/XII-25 года. Я был у брата в гостинице, и он как раз собирался к нему.
Падал снег. Сергей в черной шляпе, в шубе с воротником шалью, шел как-то уныло, задумчиво. Его осунувшееся серое лицо говорило о каких-то переживаниях, о какой-то болезни.
— Здравствуй, Сергей!
Мы с ним расцеловались.
— Ты от Петра?
— Да, тороплюсь в наркомат.
— Зайдем к Петру, как он? Что рассказывает об отце? Хочу поехать в Ленинград.
— Сергей, я тороплюсь. Ты заходи к Петру, а то как бы он не ушел. А попозже зайду и я.
Мы расцеловались, и это был последний поцелуй. Вечером, когда я пришел в гостиницу, ни брата, ни Сергея уже не застал.
Через несколько дней я позвонил Сергею домой, мне ответили, что он уехал в Ленинград. А еще через несколько дней получили известие о кончине Сергея…
Вечером, входя в Дом печати, на фронтоне здания я прочел: «Тело великого русского поэта Сергея Есенина покоится здесь».
Подходя к парадной двери, встретил Сергея Клычкова без шапки, всего в снегу. Он бросился ко мне на шею, истерически рыдая, восклицал:
— Нету, Вася, с нами Сергея, ушел Сережа!
Не выдерживая тяжести Клычкова, я его отстранил от себя и хотел поддержать под руку, но он рухнул в снег в истерических рыданиях. Несколько товарищей засуетились около него. Я пошел в зал. Много знакомых лиц, тех, с которыми Сергей знакомил меня. Вот в слезах сидит Вс. Мейерхольд, рядом с ним Зинаида Райх. Вот отец, мать, сестры Сергея.
Стоя в почетном карауле, я смотрел на Сергея. Спазмы сжимали горло, хотелось плакать. Что же от тебя осталось, Сергей, думал я, — где же красота твоих курчавых пшеничных волос — их пригладили, где твоя чарующая улыбка — рот закрыт, стянут какими-то чужими тонкими губами? А где же задор глубоких, как море, синих глаз, которые действительно, как зеркало, отражали широкую душу, где их красота? Увы, глаза закрыты! Неузнаваем Сергей, и еще горше, как-то жутко стало. Дальше все шло как в тумане. Не верилось, что этот жизнерадостный Сергей вдруг так нелепо покончил с собой. Да, кончилась трагедия его жизни.
С помоста послышались слова — читал В.И. Качалов:
Не жалею, не зову, не плачу…
Да, Сергей, ты уже не плачешь, но плачут миллионы людей. Беспрерывно играет траурный марш. Поздно ночью расходимся. Завтра последний твой путь, Сергей. Прощай…
Через месяц, переехав границу, я вступил на персидскую землю и вспомнил Сергея. Как он рвался в эти края!…
И не раз со сцены тегеранского клуба можно было слышать «Русь Советскую», «Персидские мотивы» и много, много других стихов Сергея Есенина. А как горячо на чужбине принимали их наши советские люди.
В 1953 году летом я опять в Москве. Долго сижу на маленькой скамеечке на могиле Сергея. Много людей посещает могилу, идут и идут. Вот пожилая женщина с вязаной сумкой, в ней вижу несколько картофелин, хлеб, на ней потертые парусиновые туфли, видимо, из рабочих и прямо с работы. Кладет сумку, прибирает опавшую листву, убирает завядшие цветы, из сумки вынимает букетик свежих цветов и бережно раскладывает их у памятника.
— Я очень извиняюсь, — обращаясь к ней, — скажите, вы не родственница Есенина?
— Нет, в прямом смысле я не родственница. Но Сергей нам всем родной, всему народу родной, ведь он тоже из народа и писал для народа.
Я опустил глаза. Через несколько минут она собрала свою сумочку и быстро ушла. В моей памяти остались ее слова:
—Он тоже из народа и писал для народа.
Примечания[править]
- ↑ Был март 1924 года. Автор ошибся; в марте 1924 года Есенина в Баку не было — он находился в Москве в больницах (сначала в Шереметьевской, а потом в Кремлевской). Речь идет об осени 1924 года (сентябре)
- ↑ Приехал из Тифлиса Сергей Александрович. Есенин приехал в Баку 20 сентября 1924 года; описанные ниже события были не в этот день, а, скорей всего, на следующий.
- ↑ …если и пишу малость. В.И. Болдовкин в юности писал стихи, писал и позже. Наверное, он читал их Есенину, но как к ним отнесся Есенин нам неизвестно. Одно из больших стихотворений Болдовкина «Книжка про нефть», написанное в 1934 году неоднократно печаталось, было переведено и опубликовано на азербайджанском языке. Даже центральная газета «Бакинский рабочий» 14 апреля 1934 года поместила большую рецензию на стихотворение без подписи под названием «Первая детская книжка о нефти».
- ↑ …заехал в гостиницу «Новая Европа». Гостиница «Новая Европа» находилась на Горчаковской ул. (ныне ул. Г.З.А. Тагиева), примерно в 150 метров от дома, жила семья Болдовкиных — отец, мать и он сам.
- ↑ …здание «Исмаилийе». «Исмаилийе» — одно из самых красивых зданий Баку. Построено в стиле венецианской готики гражданским инженером И.К. Плошко в 1913 году как дар миллионера Мусы Нагиева городу. После установления Советской власти в нем располагался Дворец тюркской культуры, позднее — Академия наук, сейчас — Президиум Академии наук Азербайджана.
- ↑ Аба — старинная верхняя одежда мусульман.
- ↑ … он читал «Улеглась моя былая рана…» Очевидно, это были лишь наброски стихотворения, иначе, если бы оно было готово, то Есенин бы отдал его П.И. Чагину для публикации в газете «Бакинский рабочий». Стихотворение было дописано в Тифлисе и опубликовано уже в газете «Трудовой Батум» 10 декабря 1924 года.
- ↑ Есенин уехал из Баку в Тифлис 6 октября, а В.И. Болдовкин, судя по его мемуарам, еще раньше, так что время их встреч ограничивается двумя неделями и даже меньше.
- ↑ Возможно, именно рассказы В.И. Болдовкина о Персии и стали толчком для создания цикла «Персидские мотивы». Надо учитывать также, что Баку в 20-е годы (особенно старая крепость) имел тот «восточный колорит», какой имел любой восточный город. Ни Тифлис, ни Батум, где поэт продолжал работу над циклом, этого колорита не имели.
- ↑ Я говорил с руководящими товарищами о поездке в Персию Здесь намек на тогдашнего первого секретаря ЦК АКП (б) С.М. Кирова. Передавая слова Есенина, в своих мемуарах В.И. Болдовкин опирался на рассказы брата о том, что Есенин познакомился с Кировым осенью 1924 года на вечере в честь приезда в Баку заместителя председателя Реввоенсовета СССР М.В. Фрунзе. Кстати, П.И. Чагин рассказывал об этом и в своей статье «Живой, могучий, чародей поэзии». — Газета «Приокская правда». Рязань, 1958, 15 июня. Однако осенью 1924 года М.В. Фрунзе в Баку не приезжал, а прием в его честь, на котором мог присутствовать Есенин, состоялся в один из дней 17—19 апреля 1925 года, когда М.В. Фрунзе действительно был в Баку. Знакомство Есенина с Кировым состоялось по утверждениям мемуаристов В.З. Швейцера, В.А. Мануйлова, Е.А. Гурвича чуть раньше во время одного из чтений Есениным своих стихов в редакции «Бакинского рабочего», куда приехал С.М. Киров и впервые слушал поэта. Думается, что чтение стихов Есениным ему понравилось, как понравился и сам поэт, и он решил пригласить его на прием в честь М.В. Фрунзе
- ↑ В.И. Болдовкин мог прибыть в Баку из Пехлеви только на пароходе «Зиновьев» 22 мая 1925 года, т.к. по содержанию мемуаров после его приезда и до отъезда Есенина в Москву 25 мая 1925 года прошло два-три дня. Согласно графику движения пароходов по Каспию, напечатанному в газете «Бакинский рабочий» 24 и 25 мая 1925 года, из Персии в Баку прибыли пароходы: «Боевой» — 20 мая, «Зиновьев» — 22 мая, «Север» — 25 мая.
- ↑ В апреле 1925 года Есенин сильно простудился, искупавшись в море, сказались и старые простуды в Тифлисе и Батуме. С диагнозом «катар правого легкого» поэт с 6 по 17 мая находился на лечении в бакинской больнице водников (Биржевая ул., ныне ул. Уз. Гаджибекова, д. 1)
- ↑ В этой шляпе Есенин сфотографировался с В.И. Болдовкиным 24 мая 1925 года в фотоателье Л.Г. Брегадце (см. Полное собрание сочинений С.А. Есенина. Т. 7, кн. 3, с. 190. Фотоателье находилось на парапете в несколько десятках метров от дома, где жила семья Болдовкиных.
- ↑ Это начало 11-й строки стихотворения Есенина «Песня» («Есть одна хорошая песня у соловушки…»
- ↑ Текст телеграммы, приведенной В.И. Болдовкиным, отличается от автографа-черновика телеграммы, хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства. Вот его текст: «Москва, Брюсовский, дом. 2, корпус Правды, кв. 27. Бениславской. Четверг будем двое Чагиным братом, приготовьте комнату. Встречайте, справясь — Есенин"»
- ↑ Лашевич Михаил Михайлович (1884—1928) — советский партийный и военный деятель. В 1925 году был заместителем наркома по военным и морским делам, зам. председателя РВС (Реввоенсовета) СССР
- ↑ Ошибка памяти; двоюродный брат Сергея Есенина — Александр Федорович Ерошин
- ↑ Буниат-Заде Дадаш Ходжа оглы (1888—1938) — советский государственный и партийный деятель Азербайджана. В 20-е годы занимался развитием системы образования, был наркомом продовольствия. С 1928 года председатель СНК Азербайджанской ССР, с 1932 года наркомзем . Член ЦИК СССР
- ↑ Мусабеков Газанфар Махмуд оглы (1888—1938) — советский государственный и партийный деятель. С 1922 года председатель СНК, а с 1929 года — председатель ЦИК Азербайджанской ССР. С 1925 года один из председателей ЦИК СССР и кандидат в члены ЦК ВКП (б). Много сделал для восстановления нефтяной промышленности.
Эфендиев Султан Меджид (1887—1938) — советский государственный и партийный деятель, один из создателей социал-демократической группы «Гуммет» («Энергия»). С 1924 года председатель ЦКК КП (б) Азербайджана. С 1927 года заместитель, а с 1931 года председатель ЦИК Азербайджанской ССР. Член ЦКК ВКП (б) в 1924—1927 гг. Член ЦИК СССР. Каракозов (Карагёзов) Михаил Александрович (1878—1939) — руководящий хозяйственный работник, занимавший в 20-е годы ответственные посты в Азербайджане и на Северном Кавказе.
Ахундов Рухулла Али оглы (1897—1938) — советский государственный и партийный деятель, публицист, ученый (труды по литературе, истории, искусству). С 1924 года секретарь ЦК КП (б) Азербайджана, нарком просвещения республики. В 1930 году секретарь Заккрайкома ВКП (б). - ↑ Прогулка на пароходе состоялась 19 июня 1925 года (см. публикацию Т.Г. Никифоровой «…Горько видеть жизни край». Сергей Есенин и Софья Толстая», в которой приведена запись С.А. Толстой в настольном календаре от 19 июня, пятница: «На пароходе — 2 Есениных, 2 Чагиных, 2 Савкиных». — Журн. «Наше наследие». М., 1995, № 34, с. 61). Яковлев — точно личность не установлена. Возможно, это был Яковлев-Трифонов Александр Степанович (1886—1953) — русский советский писатель или Яковлев (Эпштейн) Яков Аркадьевич (1896—1938) — советский государственный и партийный деятель. В 1923—1924 гг. — на работе в ЦК ВКП (б). С 1926 года — заместитель наркома РКИ, а с 1929 нарком земледелия СССР. Член ЦИК СССР. Публикаторы склонны считать, что это был Я.А. Эпштейн
- ↑ Поездка состоялась в среду-четверг 24—25 июня 1925 года (см. записи С.А. Толстой в настольном календаре. — Журн. «Наше наследие». М., 1995, № 34, с. 62)
- ↑ Автограф экспромта не сохранился: семья Шумяцких была репрессирована, и все бумаги пропали
- ↑ Есенин уехал в Баку вместе с С.А. Толстой 25 июля 1925 года
- ↑ Последняя строка поэмы «Черный человек» дана мемуаристом неточно, предпоследняя строка вообще пропущена. Воспроизводим четыре последние строки точно: Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один… Я — разбитое зеркало…
Публикацию и комментарии подготовили:
Г.И. Шупилина (г. Баку) и Н.Г. Юсов (г. Москва) ЗДЕСЬ и
ЗДЕСЬ