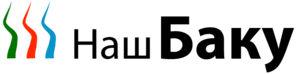Вагиф Самедоглы "Прогулки в прошлое… "
Вагиф Самедоглы "Прогулки в прошлое… "[править]
Порой меня охватывает непреодолимое желание вернуться в прошлое, где по весне цвели и одуряюще пахли акации, где мои родители были молоды и все тяготы жизни, горе, болезни и невзгоды еще не случились… Во времена, когда я переживал свою детскую любовь и сломя голову несся куда-то по своим мальчишеским делам, когда двор и друзья были главным делом моей жизни…
Я родился в самом центре Баку, на улице Фиолетова, 6.
Неподалеку от нас находился универмаг, который сейчас называют Старым, а тогда он был единственным. Внизу нашего дома располагалось ГАПУ – государственное аптечное управление, а прямо напротив ломбард, с которым у меня связано самое первое и самое сильное впечатление от столкновения с суровым взрослым миром. И моя память словно спотыкается, останавливаясь на одном из самых жутких воспоминания детства…
Десятки женских лиц, прочерченных почти графическими морщинами. Они стоят в скорбном молчании, лишь изредка перешептываясь друг с другом. Эту безысходную неподвижность лишь иногда нарушает нервное движение беспокойных обветренных рук, перебирающих бахрому на стареньких платочках…
Они ждут открытия ломбарда, чтобы заложить каким-то чудом сохранившиеся после войны вещи, потому что их семьям почти нечего есть. А рядом сверкает и ломится от изобилия Продмаг… И я, глотая горькие детские слезы, со всех ног бегу на свой четвертый этаж, домой, в свой счастливый мир, где всегда хорошо…
Я жил в очень интернациональном доме, и у нас во дворе была четверка закадычных друзей – я, Зика (Зейнаддин, сын дворника Каватулина), Славик Горелко и Захар-Крысоед.
А на первом этаже жила моя первая любовь… Ляля… Лялечка…
Она ходила в балетную школу, и мы с ней обо всем заранее договорились. На четвертом этаже, где была наша квартира, мы будем жить, а на первом у нас будет что-то вроде мастерской и балетного зала. То лето 1948 года я не забуду никогда…
На каникулах я с родителями уехал в Кисловодск, а она с мамой отправилась погостить к родственникам в Ашхабад. С каким же нетерпением я ожидал нашей встречи! Я даже купил для нее фосфорическую статуэтку балерины…
Когда, наконец, я вернулся в Баку, то сразу же бросился к ней. Но во дворе меня окружили старушки: «Вагифчик, не ходи туда». Как не ходить?! Она же написала мне, когда приедет, и, значит, уже должна быть в Баку! «Нет больше Лялечки…. Она погибла… В Ашхабаде было землетрясение».
Описать словами то, что в этот момент произошло в моей душе, наверное, невозможно. Мне казалось, что все вокруг меня остановилось… Исчезли звуки, запахи и даже краски слились в какой-то бешено вращающийся вихрь. Я стоял, прижимая к своей груди эту фосфорическую статуэтку балерины, и никак не мог понять этих безысходных слов… Ляли больше нет, и я ее никогда больше не увижу…
Мне было восемь лет, и в мою жизнь впервые вошло это страшное слово – «никогда»…
И еще была жуткая история, но уже с другой девочкой – Катей. Она жила на пятом этаже. Пятый этаж старинного дома – это почти как восьмой нынешнего. Нам с ребятами не хватало одного человека для какой-то игры во дворе. Мы стали дружно ее кричать: «Катя, выходи!» А у нее был сильно пьющий отец.
Когда она собралась во двор, он как будто взбесился, и ни в какую не захотел ее отпускать. Катя стала плакать, просить. Тут он, совсем уже озверев, со словами: «А-а! Хочешь к ребятам, ну иди»… выкинул ее в окно, прямо нам под ноги. Славик Горелко весь был не только в крови, но и вообще во всем, что остается от человека…
Моя мама тут же позвонила отцу (известный писатель Самед Вургун — ред.). Когда он пришел, то сразу же достал свой пистолет, подарок маршала Рокоссовского, и кинулся на лестницу. Но в этот момент наш сосед, дядя Сабзали, бросился к папе, обнял его ноги и начал неистово кричать: «Бурахмарам, бурахмарам! Ты что, Самед! Из-за этого мерзавца хочешь погубить себя?» Прокурор республики Эфендиев, который тоже жил в нашем дворе отнял у папы пистолет, и сказал мне, чтобы я его куда-нибудь спрятал…
Однако в моей юности были не только трагические события. Было и много смешного.
Когда на экранах появился фильм «Чапаев», все мальчишки буквально сошли с ума. Как же – герой, красный командир, который побеждал всех врагов!
Однажды я откуда-то возвращался домой, и вдруг вижу, как мне навстречу идут очень грустные Зика, Славик и Захар.
– Ребята, что случилось? – спрашиваю их.
– Э-э, Чапаева посмотрели, Вагуля. Погибает он в конце!
Я моментально сориентировался и говорю:
– А где вы его смотрели?
– В кинотеатре «Вэтэн».
– Дураки, идиоты! Кто же смотрит Чапаева в «Вэтэн»? Вот в «Аразе» Чапаев переплывает реку и побеждает!
– Не может быть!
– Честное слово.
Они не пошли, они сломя голову побежали в «Араз». А через два часа со двора раздался вопль:
– Вагиф! А ну спускайся!
– Нет, ребята. Я лучше дома останусь…
И Зика, поняв, что меня никак не выманить, заорал:
– Тогда хотя бы брось три рубля, а то я у мамы взял на билеты…
Когда я немного подрос, кино и джаз стали для меня всем. Мы и джаз учились играть по кинофильмам, не у всех же были пластинки!
Я учился в одной школе с Вагифом Мустафазаде, и мы иногда по пять раз в день смотрели фильмы, где играли джаз, а потом тут же бежали или к нему в Крепость, или ко мне домой, чтобы тут же проиграть запомнившуюся мелодию.
Об этом мало кто знает, но Вагиф прекрасно исполнял мейхану. В садике Сабира собирались крепостные авторитеты – джаилы, платили нам деньги – мне, Вагифу и Рафику Закя, моему однокласснику и будущему поэту, и мы говорили мейхану. Лучше всех был, конечно же, Вагиф. Он был безмерно талантливым человеком…
В Баку был знаменитый на весь город Клуб железнодорожников, который мы называли Желдор. Здесь собирались самые лучшие джазисты, в том числе и знаменитый на весь Союз Вова Любенский – высокий, красивый, с золотистыми волосами парень, чем-то похожий на молодого Ельцина. А летом практически все бакинские музыканты выезжали на курорты – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск…
В моем представлении жители Баку, собственно говоря, это так и было на самом деле, подразделялись на несколько групп, отличающихся друг от друга и музыкой, и литературой, и одеждой, и традициями…
Юхары мяхялля, или, как ее еще называли, Даглинка, был чисто азербайджанским районом города. Из головных уборов крепкие и суровые мужчины, населявшие этот квартал, предпочитали кепку-восьмиклинку, «сяккиз гулаг», зимой облачались в длинное пальто, а у «битых» даглинцев, то есть у уголовников, пальто обязательно было без пуговиц, чтобы при случае можно было его быстро скинуть и убежать, и носили его как бушлат, просто запахиваясь.
Что же касается музыки, то всем жанрам они предпочитали мейхану. Кстати, во времена моей юности мейхана, впрочем, как и джаз, была запрещена. Главная опасность, которую советский тоталитаризм усмотрел в этом жанре, заключалась в том, что мейхана была стопроцентной импровизацией, абсолютно не поддававшейся контролю и цензуре. Поэтому власть поступила «просто и со вкусом» – мейхану запретила.
Совершенно другим местом было Баилово. Это был смешанный по национальному составу район, но в основном там жили русские.
Это были простые ребята, родители которых работали в Каспаре, судоремонтном заводе, на 20-м участке, замечательные коллекционеры и лучшие в Баку ремесленники и мастера по ремонту фотоаппаратов, радиоприемников и прочей бытовой техники.
Музыка там звучала в основном русская – песни, романсы под гитару или баян…
Именно на Баилово я впервые услышал песни Вертинского. Был у меня такой приятель – Коля Боярцев. Его мама, аккомпанируя себе на гитаре, исполняла задушевные романсы и рассказывала нам о Вертинском, который в конце войны приезжал с концертами в Баку. От нее же я услышал очень интересный рассказ о том, как Маяковский, перепрыгнув оркестровую яму нашего оперного театра, буквально вылетел на сцену, чтобы прочитать бакинцам свои громогласные стихи.
Кстати, именно на Баилово находился тогда «Птичий базар», на котором собирались лучшие бакинские аквариумисты. В тот период мы с братом держали рыбок, поэтому постоянно ходили туда по воскресеньям.
Я очень хорошо помню Михаила Ивановича – он был одним из первых, кто в Баку взял приплод от скалярий. А я был первым азербайджанцем, который взял приплод от скалярий. Тогда же не было таких технических приспособлений для аквариума, как сегодня. Все это делалось вручную, ежедневно менялась вода, промывались камушки и водоросли, и вся наша квартира постоянно была мокрая. Родители, конечно же, кошмарно относились к нашему увлечению, но терпели, так как считали, что это лучше, чем болтаться по двору…
Завокзальная улица была очень колоритным местом и по своим обычаям, и по своему национальному, вернее, интернациональному составу, и, конечно же, благодаря пристрастию к блатной музыке…
Но самым главным местом Баку был, безусловно, центр. Уже начиная с середины 40-х годов, его населяли прожженные западники, а чуть позже, и стиляги.
«Центровые» буквально бредили джазом, который находился под запретом, причем не только в СССР, но и в фашистской Германии. Но если у Гитлера джаз считался музыкой чернокожих и был отменен из чисто расистских убеждений, то в нашей стране Сталин, устами Горького, объявил джаз «музыкой толстосумов», хотя перед войной в Баку уже были потрясающие джаз-оркестры.
А после войны в брешь, которая образовалась после приоткрытия «железного занавеса», на нас обрушились Кафка, Пикассо, Брехт, Ремарк, Хемингуэй, Феллини… Это был совершенно другой взгляд на мир, другой язык, который просвещенные, интеллигентные бакинцы моментально освоили…
Вот так в Баку и уживалось четыре совершенно разных проявления городской жизни, и все запрещенные – мейхана, джаз, блатная музыка и романсы Вертинского…
Конечно же, в магазинах были вещи, и мы их покупали и носили. Я до сих пор помню все товары 40-50-х годов, которые тогда продавались – фотоаппараты, авторучки, записные книжки, игрушки, мебель…
А потом, в начале 50-х годов начали появляться очень качественные китайские вещи. Это сейчас все, что сделано в Китае, ассоциируется с плохим качеством, а в то время китайские товары под маркой «Дружба» были суперкачественными – сорочки, белье, модные макинтоши за 240 рублей сталинских послереформенных денег.
Надо сказать, что это была жуткая и бесчеловечная реформа, многие люди так и не успели поменять свои деньги. У нас дома тоже осталось две толстые пачки красных 30-рублевок. Тогда бумажные деньги номиналом в 1, 3 и 5 рублей были вертикального написания, а 10, 20, 30, 50, 100 были горизонтальными. Причем 50-ти и 100-рублевки по размеру были гораздо больше остальных купюр. Но лично в моей жизни эти «необмененные» деньги сыграли весьма приятную роль…
В нашем дворе жила девочка Танечка. Я давал ей по пять штук этих самых тридцатирублевок и целовал в щечку под лестницей…
Я успел отдать ей где-то пятнадцать купюр, но однажды, когда я в очередной раз обратился к ней с этим предложением, она так мне заехала: «Подлец! Это уже не деньги!».
Я тоже был стилягой, но не таким дотошным, как большинство. Ведь многие бакинские стиляги даже носков советских не носили! Многие специально ездили в Москву и приобретали там вещи у иностранцев или спекулянтов. Уже потом эти деловые люди стали называться фарцовщиками.
На улице Азизбекова жил такой Фима Либерман, у которого была потрясающая коллекция пластинок фирмы «Columbia», предмет зависти всего города, и за которыми он по нескольку раз в году ездил в столицу. Иногда ему что-то перепадало от посольских работников.
Помню, как однажды Фима мне сказал: «Вагуля, мне американцы отдали пластинки практически бесплатно – за три рубля десяток дисков».
В начале 90-х, когда Фима собрался уезжать в Израиль, он мне позвонил: «Если хочешь немедленно приезжай и забери всю коллекцию за три тысячи долларов». Тогда я не смог достать таких денег… До сих пор я не знаю, у кого сейчас находится его прекрасная коллекция…
После войны в кинотеатрах шли так называемые трофейные фильмы, и прямо в начале на экране возникали титры – «Этот фильм взят в качестве трофея после победы над фашистской Германией». Это были в основном вестерны и музыкальные фильмы, хотя «Серенаду Солнечной долины» показывать не разрешали.
Но у того же Фимы Либермана она была на узкой пленке. Иногда он устраивал просмотры для своих знакомых, мы собирались у него веселой толпой, брали выпивку, закуски…
Интересно, что на голливудские фильмы обязательно приходили знаменитые бакинские портные – Геллер, Толя Волков, Вели. Мастерами они были потрясающими и шили идеально, один к одному как в американском кино.
А самой знаменитой, и потому труднодоступной женской портнихой была Анна Иосифовна, у которой шили свои наряды состоятельные женщины, жены известных писателей, поэтов, музыкантов, и моя мама в том числе.
В то время новые платья и даже туфли шились к каждой театральной премьере в оперном театре или Аздраме.
В Русскую драму тогда одевались более демократично, потому что туда ходила в основном публика среднего достатка. А в Аздраме и оперном собиралась вся элита Баку – писатели, композиторы, музыканты, зубные техники, гумарбазы и знаменитые театральные карманники высшей квалификации.
Был в Баку такой известный Назим, который действовал точно так же, как и герой Евстигнеева из фильма «Место встречи изменить нельзя». Он появлялся в театре в шикарном костюме с красивой женщиной под ручку, обязательно вытаскивал у кого-то номерок, и его спутница уходила в шубе.
Ведь тогда и шубы были лучше, чем сейчас – настоящие русские шубы из чернобурки или песца, купленные в Ленинграде на Всемирном аукционе пушнины.
Еще были специалисты по «изъятию» золотых часов и серебряных портсигаров. Был такой знаменитый Кямал, который на каждой премьере снимал по две-три пары золотых часов. Но этот Кямал знал наизусть всю азербайджанскую драматургию! А после спектакля он устраивал щедрые фуршеты в ресторанах АЗНИТО или «Новая Европа», приглашал туда ведущих актеров и обязательно дарил одни золотые часы лучшему, по его мнению, актеру.
Однажды и я, совсем еще молодой человек, побывал на одном из таких застолий. Подвыпивший Кямал вдруг встал и начал наизусть читать пьесу моего отца «Вагиф».
На второй картине я попробовал его остановить: «Кямал, мне не нужно это читать». «Нет, – сказал он, – подожди. Смотри, как Самед Вургун здесь сказал». И с наслаждением продолжил свою декламацию. Вот такие были тогда в Баку уникальные карманники…
А еще Баку был знаменит своими… проститутками. Некоторые «дамы легкого поведения», азербайджанки по национальности, тусовались в центре и одаривали своим вниманием председателей колхозов и других важных начальников, которые приезжали в Баку из районов. Иногда их услугами пользовались и бакинские мужчины. Так вот последние, завидев их где-нибудь на центральных улицах, тут же старались незаметно ретироваться, так как эти жрицы любви могли, что называется, открыть свой рот и опозорить их на весь город… Были и русские проститутки со смешными прозвищами – Лисичка, Австриячка, Кадилка, которую так прозвали за то, что она, несмотря на свою «древнейшую профессию», была верующей и ходила в церковь.
Кстати, о церкви… В церковном хоре, как это не парадоксально, пели артисты оперного хора, в основном, азербайджанцы. Артистам же всегда мало платили, и они тайком, приработка ради, исполняли псалмы. Да и хор радио тоже там промышлял.
Однажды я шел мимо синагоги, и вдруг вижу, как оттуда выбегает мой друг, Генка Занис (его отец был бухгалтером в Союзе писателей). Он нервно меня окрикнул: «Вагуля! Иди сюда». И схватив меня в охапку, затащил в синагогу. Оказалось, что у них для какой-то молитвы не хватало двенадцатого человека. Генка, надев мне на голову кипу, сказал: «Ничего не говори, только качайся». И я, чтобы выручить друга, добросовестно прокачался всю службу…
А так, по жизни, мы были атеистами.
Но если моя бабушка вдруг видела во сне что-то нехорошее, она тут же посылала меня в церковь, чтобы я поставил там свечку. О том, чтобы пойти в мечеть мне, сыну Самеда Вургуна, моей маме, или даже его теще, и речи быть не могло – это было опасно.
Но все равно Баку был очень патриархальным городом. И, несмотря на то, что тогда не разрешали праздновать Новруз Байрам, почти во всех домах перед праздником собирались женщины, и на керосинке или «буржуйке» пекли огромное количество сладостей. Причем, пекли не только для себя, но для того, чтобы обязательно угостить соседей.
Угощать – это был непреложный бакинский закон.
А потом и нас угощали, и на русскую Пасху у нас в доме бывало по десять-пятнадцать куличей… Но мы, мальчишки, любили этот праздник не только за куличи. В этот день мы специально ходили в церковь, чтобы целоваться. Правда, иногда к нам лезли с поцелуями старушки, но мы старались как можно быстрее от них избавиться, чтобы найти молодых девушек…
Были в Баку и свои городские сумасшедшие…
Я хорошо помню глубоко больного человека по прозвищу Мишоппа. У него голова была размером в два кулачка, и плюс ко всему, какие-то мерзавцы приучили его курить анашу.
Был еще один сумасшедший, Габиль, который очень любил писателей. Когда мой папа был вице-президентом Академии наук, он ходил на работу пешком. Габиль обязательно встречал его около Продмага, брал под руку, и вокруг них тут же собиралась целая толпа народа. А Габиль, захлебываясь от восторга, провожал папу до работы и всю дорогу читал ему стихи… Папа всегда шутил по этому поводу и говорил, что народ идет или за поэтом, или за сумасшедшим…
Потом в Баку был такой Тарзан, которого так прозвали за то, что он кричал один к одному, как знаменитый киногерой.
Был еще Орун – ему платили по рублю за каждые десять криков. Получив деньги, он хватался за ухо и начинал так пронзительно орать, что его было слышно на соседней улице…
В городе к ним относились по-разному – кто-то их подкармливал или давал немного денег, но встречались и такие негодяи, которые их обижали и даже били.
Честно говоря, в начале 50-х годов Баку был беспокойным городом. Мальчишкам невозможно было спокойно ходить в кепках – обязательно украдут прямо с головы. Многие из городских ребят это знали, и старались не ходить параллельно трамвайным линиям. У хулиганов была своя техника по отъему головных уборов – они срывали кепку и на ходу запрыгивали в трамвай. Ничего не скажешь, профессионалы…
И убийства были, и грабежи. Каждый год к лету распускали слухи, что в Баку понаехали ростовские воры. Об одесских, почему то, никогда не упоминалось.
Помню, в то время не было прямого поезда до Кисловодска, и в Минводах приходилось пересаживаться на электричку. Начиная с Дагестана, на определенном участке пути по вагонам начинали метаться проводники с криками: «Закрывайте окна!» Потому что в окна закидывали веревки с крюками, и так иногда профессионально бросали, что могли вытащить даже чемодан. Такие были ловкачи!
Особенно много уголовников, причем не только в Баку, но и вообще по всей стране, стало после смерти Сталина, когда Берия по амнистии выпустил на волю тысячи преступников…
Пролетела шумная, беспокойная юность с бесконечными играми и драками из-за девчонок. И вот я, уже вполне взрослый молодой человек, прогуливаюсь по Торговой. На этой улице собирались, порой, более тысячи человек, и все друг друга знали!
Мой путь от кинотеатра «Низами» до кинотеатра «Азербайджан» занимал часа полтора, потому что со всеми надо было поздороваться, поговорить, да просто пожать товарищу руку!
«Привет, чувак!» Молодежь на Торговой общалась на своем, особенном языке, и мы все понимали с полуслова. «Отхил Петрович» – мы уходим, «Кочумай» – молчи…
В то время телефоны были не в каждом доме, и если мне нужно было увидеть кого-то из своих друзей, я просто одевался и шел на Торговую, и непременно их там находил…
В чайхану мы не ходили. Чайхана была местом для взрослых, или как мы их называли для Ахулеман Стальских, то есть для солидных мужчин, носивших каракулевые шапки и пальто с каракулевыми воротниками…
А какие красивые девчата были на Торговой… Выпирала интернациональная кровь, потому что особенно красивые девушки были именно от смешанных браков. Но к девушкам у нас было очень уважительное отношение.
Ухаживали, страдали, ночей не спали, конечно же, думали «о нехорошем», но чтобы это предложить или высказать? Никогда! Надо было помучиться минимум несколько месяцев, надо было звонить и преподносить цветы, в основном гвоздики…
И пахли наши девушки как-то особенно приятно. Тогда же в магазинах не продавалось ничего особенного – ну «Красная Москва» или «Красный мак». Но какими-то путями, очень редко доставали и привозили французские духи.
Публика была одета, в основном, конечно же, очень стильно, что было особенно заметно по воскресеньям, когда весь народ шел на бульвар демонстрировать свои платья, прически, туфельки. И вся эта нарядная толпа кругами ходила по бульвару, рассматривая друг друга.
А на площади перед Музеем Низами нас учили танцевать. Балетмейстер взмахивал руками, и духовой оркестр, сверкающий медными трубами, начинал играть вальс, мазурку, краковяк. И мы со своими дворовыми девчатами неуклюже осваивали эти изящные танцы…
Ну, и выпивали, конечно… Тогда в любой будке, в которой торговали газировкой, можно было купить сто грамм и пикули. Особенно хорошо шла водочка после ноябрьской демонстрации: «Ики даня сиропнан (это для девушек), ве ики даня чистый (то есть водочку, это уже для ребят)»… (две с сиропом, две чистых — перев. с азерб.).
Торговая закончилась где-то с конца 60-х годов. До этого для иногородних выпускников ВУЗов был обязательный закон – после окончания института возвращаться к себе домой, в свой район. Потом этот закон убрали, и бывшие студенты стали оставаться в Баку. И Торговая начала постепенно хиреть…
В Москве на центровых улицах Горького и в Охотном ряду этот процесс превращения города в «большую деревню» произошел гораздо раньше, чем у нас. Так что, нам еще повезло…
Безусловно, современный Баку стал немного другим городом. Мне было очень грустно за наше будущее до тех пор, пока не пристрастился к Интернету. Я с удивлением обнаружил, что в Баку прекрасная молодежь – умная, образованная, свободная в своих суждениях. Да, она процентов на восемьдесят русскоязычная, но она есть! А когда в городе есть такая молодежь, значит, у города есть будущее…
Источник:
www.1news.az