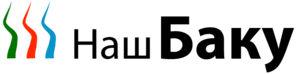Беленький Марк Натанович – заместитель наркома пищевой промышленности, репрессирован
1890 -1938
Марк Натанович родился в г.Баку в 1890[1] году.
Окончил медицинский факультет в университете Сорбонна (Париж).
Член партии большевиков с 1920 г.
С августа 1921 г. по март 1922 г. в Наркомвнуделе в Баку.
С марта 1922 г. по май 1930 г. член правления Сельхозсоюза, председатель Хлебоцентра.
В 1930 г. — председатель правления Колхозцентра. В 1931 — 1934 гг. — зам. наркома снабжения, в 1934 — 1936 гг. — зам. наркома пищевой промышленности, в 1937 г. — член Главного выставочного комитета Всесоюзной с/х выставки.
В январе 1936 г. свиносовхозу «Смычка» Можайского района Московской обл. было присвоено имя М.Н. Беленького. В декабре 1937г. совхоз был переименован в совхоз «Власть Советов».
Проживал в Москве на ул. Серафимовича, д. 2 (Дом правительства), кв. 338.
9 ноября 1937 года был арестован по обвинению за участие в контрреволюционной террористической организации.
Военной коллегией Верховного суда СССР 8 февраля 1938 года приговорен к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение 8 февраля[2] 1938 года.
Место захоронения - Московская обл, Бутово-Коммунарка
Реабилитирован - 16 апреля 1955 определением Военной коллегии Верховного суда СССР
Жена -Наталья Владимировна Минц[править]
Ее отец в Витебске владел магазином «Ткани», был купцом второй гильдии.
Познакомились и поженились Марк и Наталья в Париже, где оба учились на медицинском факультете. Наталия ушла с третьего курса, потому что родился ребенок, который умер в младенчестве, а потом уехала в Россию.
Дети[править]
- Сын – Беленький Юрий Маркович
(1921 – 1942) Студент биофака МГУ.
Во время ВОВ - красноармеец. Погиб в 1942г. в бою в районе д. Климово, там же захоронен. - Дочь – Татьяна Марковна Беленькая, в замужестве Рыбакова.
1-ый муж – поэт Евгений Винокуров.
2-й муж – писатель Анатолий Рыбаков.
Семья: братья и сестра[править]
- Брат – Борис Натанович Беленький.
1897, Баку - 1937. Инспектор отдела кадров Управления дороги им. Кагановича, г. Свердловск.
Репрессирован. Арест: 27.12.1936 Осужден 31.03.1937, Расстрелян 01.04.1937
Жена - Лордкипанидзе Нина Давидовна (1899 – 1983) - Сестра – Полина Натановна Беленькая, в замужестве Серебрянская (Бергман), 1899, Баку - 1983
Вышла замуж за Якова Исааковича Серебрянского (Янкеля Ициковича Бергмана), советского разведчика. Работала вместе с мужем заграницей.
10 ноября 1938г. арестована вместе с мужем. Приговорена к 10 годам лагерей.
В августе 1941г. реабилитирован. - Брат – Давид Натанович Беленький
Выпускник Сорбонны. Врач. Профессор, впервые применивший в СССР переливание крови.
Из воспоминаний Т.М. Рыбаковой «Счастливая ты, Таня...» (О Рыбакове, и не только о нем.)[3][править]
Детство свое вспоминаю отрывками — одна картина всплывает в памяти, вторая, третья.
Мы уже переехали из большого Кисловского переулка в Дом правительства. Мне около двух лет. Юрий Трифонов, живший в соседнем подъезде, назвал этот дом в одной из своих книг — “Дом на набережной”. Название это так к нему прилепилось, что никто его теперь иначе и не называет.
Мой отец — первый заместитель Микояна, тогдашнего наркома пищевой промышленности. Хотя по образованию он психиатр. Мама не работает.
Познакомились родители в Париже, в Сорбонне, на медицинском факультете. Оба — из зажиточных семей.
Мой дедушка по отцу был в Баку управляющим нефтяным прииском, Татьяной меня назвали в честь бабушки.
Мамин же отец был купцом второй гильдии и владел магазином тканей в Витебске.
Мама ушла из университета, окончив третий курс: родился ребенок, умер в младенчестве, и мама уехала в Россию. А отец окончил Сорбонну с отличием, его оставляли при университете, но тут началась Первая мировая война. Франция — союзница России, его мобилизовали, и после фронта он вернулся в Баку.
Встретил там Микояна, были ли они знакомы раньше — не знаю, но встреча эта оказалась для отца роковой, отец увлекся коммунистическими идеями и, не проработав ни одного дня врачом, ушел в революцию.
Его расстреляли в феврале 1938 года как “врага народа”, предъявив пять пунктов 58-й статьи.
Как отец снова соединился с мамой, тоже не знаю, почему-то в моем детстве, да и потом мы никогда об этом не говорили. Скорее всего, она приехала к нему в Баку после того, как он вернулся с фронта.
Если родители ссорились, то сразу переходили на французский — мы, дети, учили немецкий.
Еще у меня были два брата, старше меня на шесть и семь лет. Старший — Юра, он появится в рыбаковском “Страхе”, был моим родным братом, второй же — Алеша, двоюродным, его мать работала за границей, изредка появлялась в Москве и он постоянно жил у нас. Его историю мы с Рыбаковым тоже включили в “Страх”. Оба погибли в войну: Алеша — в сорок первом, Юра — в сорок втором.
В двенадцать дня выходили мы с моей няней Анютой из подъезда, она сажала меня на санки, и через Каменный мост мы направлялись за правительственным обедом на улицу Грановского. Однажды я услышала, как отец сказал Анюте, и сразу же намотала себе на ус:
- “Не выбрасывайте ни кусочка хлеба, все остатки еды относите к мосту”.
Там под Каменным мостом стояли нищие, взрослые, дети, похожие на скелетики, протягивали руки за подаянием — в стране голод.
Моя задача — держать на обратном пути крепко-накрепко бидон с супом, чтобы ни капли не пролилось. Дома я шепотом прошу Анюту:- “Наливай всем поменьше, отнеси тем детям под мост”.
Вечером мы сидим с мамой за круглым столом, рассматриваем тома Брема, над нами оранжевый абажур, это самая большая комната в нашей четырехкомнатной квартире. По стенкам полки с книгами, родительская тахта, папин письменный стол. Мебель казенная: всюду прибиты железные бирки.
Когда Рыбаков в “Детях Арбата” описывал столовую Будягиных, у меня перед глазами сразу вставала та наша комната: она и нам служила столовой, когда приходили гости или когда в редчайшщих случаях собиралась за обедом вся семья.
Рассматривать Брема, перелистовать страничку за страничкой было моим любимым занятием. Кончали один том, брались за второй…
Наш Брем был конфискован при аресте отца. Купить невозможно — ни в одном магазине он мне не попадался. И вдруг, переехав к Рыбакову, я увидела на полке те любимые мною тома. Толя даже не понял, отчего вдруг на лице у меня вспыхнула радость.- “Брэма увидела,— объяснила я ему,— как будто в свое детство вернулась”.
Мама укладывает меня спать. У нас уговор: прочитать страничку Пушкина — из “Барышни-крестьянки” или из “Дубровского”. На просьбы “еще” мама отвечает: “Уговор — дороже денег”. Сейчас эта поговорка, мне кажется, ушла из обихода.
Иногда мама пела мне “Мой костер в тумане светит” или Вертинского — “В бананово-лимонном Сингапуре” — это были две наши любимые песни.
Сижу на кухне, Анюта налила мне тарелку щей. Желтые кружочки моркови плавают в бульоне.
“Вареную морковь есть не буду”,— предупреждаю ее. Она берет блюдце, вылавливает морковь.
У нас в это время живет Ольга — младшая сестра Анюты. Она качает головой:- “Не капризничай, Танюшка, надо есть все без разбору”.
Ольгу я вижу впервые: в их селе под Саратовом началось раскулачивание, все разбежались, кто куда.
Анюта плачет: “Что делать, Господи?!” — и папа мой разрешил — пусть Ольга приедет к нам.
Остался в Анютином и Ольгином доме только их слепой отец. Ложка застывает у меня в руке — жалко мне их слепого отца. “Военные пришли, дом пустой, что взять со слепого старика, так ни с чем и ушли…” Этот рассказ Ольги помню и желтые кружочки моркови в супе.
Звонок в дверь — приносят ящик с апельсинами. Он стоит в коридоре, а мама садится звонить сестрам: “Приходите за апельсинами — куда нам так много?”
А через час просит Анюту одолжить ей туфли на вечер — они должны с отцом идти на какой-то прием. “Бежевые вам, Наталья Владимировна, или черные?” — спрашивает Анюта. “Пожалуй, лучше бежевые”, — говорит мама. Я тоже сую свой нос — соглашаюсь с мамой: “Бежевые лучше”.
С одной стороны, ящик с апельсинами, а с другой стороны — туговато с деньгами. Отец получает партмаксимум.
Но… Немки у меня и у братьев, жалование Анюте, книги, и на руках ничего не остается. Надо сказать, что и меня одевали в затрапезные байковые платья. Моя дочь в детстве по сравнению со мной была одета, как королева.
Папа учит меня есть раков. Как будто никого и нет больше за столом, видимо, все мое внимание сосредоточено на папиных руках. Мы обсасываем каждую ножку, сдираем панцирь с шейки, клешни я разгрызаю зубами, губы начинают болеть, но как же вкусно… ”Еще,— прошу, — еще…”
Отца я почти не видела — домой он приезжал в два-три ночи — таков был стиль работы тех лет, а уезжал из дому, когда меня уже уводили гулять. Он не мог ночью пройти мимо моей комнаты равнодушно: целовал меня, брал, сонную, на руки, и я продолжала спать на его плече.
“Но я хоть слышу, как она дышит”,— объяснял он маме, та сердилась, что он меня будит. Отец меня баловал.
Маме было почти сорок лет, когда я родилась. Профессор Сперанский, который выхаживал меня с рождения, потребовал, чтобы лет с четырех-пяти я жила на воздухе. Папа получил дачу на Сходне, там, вместе со мной и воспитательницей, жил Фадеев...
Михаил Светлов, Либединский, Фадеев дружили с моими родителями. Надо сказать, что Фадеев, при том высоком положении, которое занимал, никогда не бросал близких людей, вернувшихся из сталинских лагерей. На примере моей матери знаю это, и со мной у него были почти родственные отношения — все-таки не один день мы жили вместе на Сходне...
Возвращаюсь из школы, открываю калитку — на крыльце стоит мама.
Кидаюсь к ней: “Сшила?” Мне и в голову не приходит, что она приехала без обещанного. “Нет, Танюшенька, не успела. Сейчас ты пообедаешь, мы быстро соберем твои вещи и уедем в Москву. Вчера арестовали папу”.
Мы едем в электричке, и только тут я начинаю понимать, что больше не увижу отца. Только, только это дошло до меня. Народу полно, плакать стыдно, все-таки потихоньку хлюпаю носом. Мама, заметив мои слезы, сует мне свой носовой платок и выходит в тамбур покурить.
Отворачиваюсь к окну — лес, примятая холодом трава, опять лес. Вот так же мы стояли вместе — я, папа, мама — всего несколько месяцев назад на такой же опушке.
Это был конец августа или самое начало сентября. Мы вышли вечером прогуляться. Небольшой овражек впереди, и я вижу возле пня семью опят. “Грибы, грибы”, — кричу я, и мы спускаемся вниз. Маленькие кустики уже окутаны осенней паутиной, солнце заходит, высвечивает ее.
С соседней дачи доносится “У самовара я и моя Маша”, а мы все стоим и стоим, слушаем “Машу”, и так мы любим друг друга, и так хорошо нам вместе, как никогда. То ли предчувствие беды уже владело нами?.. Отчего же иначе так остро воспринималось счастье в тот момент?
Я помню отлично, как подумала, сидя в поезде: “Это был самый счастливый день в моей жизни”. Девять лет мне было тогда. И сейчас, спустя более полувека, я думаю то же самое, делая небольшую оговорку: “Это был самый счастливый день, но уже не в моей жизни, а в моем детстве”.
С такими мыслями входила я в новую жизнь, в жизнь дочки “врага народа”.
Маму арестовали спустя полтора месяца после отца. Папу — 9 ноября, он только вернулся из Коми ССР, где его выбрали депутатом Верховного Совета СССР. Как писал Солженицын: сегодня выбирали в Верховный Совет, а назавтра арестовывали. (Цитирую по памяти.)
Папина секретарша тайно рассказала маме: Марк Натанович вошел в кабинет Микояна. Они поговорили несколько минут, и отец вышел, хлопнув дверью. У лифта уже стояли чекисты, поджидая его.
12 января мы были в гостях у маминой сестры. Вернулись домой около десяти, мама повернула ключ в замке — в коридоре на диванчике, над которым висел телефон, сидели трое военных с винтовками и наш вахтер Московкин.
“Не дам, — закричала я с порога,— я не дам вам маму”, — и вцепилась обеими руками в ее пальто. Мой крик и слезы не произвели на них никакого впечатления: привыкли и к крикам, и к слезам.
Они предъявили маме ордер на обыск и арест и начали вышвыривать на пол из бельевого шкафа простыни, пододеяльники, полотенца. Обыск продолжался не слишком долго — две комнаты ведь были уже опечатаны.
Можно себе представить, как уводили маму, как прощались с ней мои братья, меня же просто невозможно было от нее оторвать, но детей вместе с родителями в тюрьмы не брали, кроме грудничков, отправляли в детские дома.
Утром приехала мамина сестра, тетя Дина, моя любимая тетка и мать Льва Наврозова — хорошо известного в Москве и Нью-Йорке литератора. Она взяла меня к себе и таким образом спасла от детского дома.
И начались мои скитания по родственникам.
... а на что мы жили? Юра уже учился на биофаке в университете. В зачетной книжке одни “отлично” — значит, получал стипендию. Это раз. Он умел водить машину, научил его этому один из папиных шоферов. Имел права. Ночами развозил хлеб по булочным. Это два, ну, и, наверное, продавали теткины вещи — в комнате громоздились несколько больших заграничных сундуков. Это три. Однако помню, когда он провожал меня в эвакуацию, сбор был у Литературного института, он купил мне 200 грамм сыра — это воспринималось как роскошь...
В Омске я узнала о гибели моего брата. Похоронка пришла маме в лагерь, а мне почтальон принес перевод на сто рублей. На обороте значились только имя и фамилия: Юрий Беленький — и ни одного слова приписки. Это значило, что на случай гибели он просил переслать сестре все свои деньги... Мой брат, как я уже говорила, погиб в 1942 году…
Примечания:
- ↑ По другим источникам в 1891г.
- ↑ По другим источникам – 10 февраля
- ↑ журнал «Дружба народов», №3 2005
Источники:
сайт "Исторические материалы"
сайт Центра Сахарова «Память о бесправии»
Москва, расстрельные списки - Коммунарка
Странники войны: Воспоминания детей писателей. 1941-1944
сайт «pseudology»
сайт "Село Тропарево"