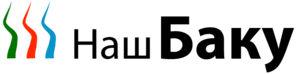Багиров Эйюб Газрат-Кули оглы - экономист-бухгалтер, репрессирован
Багиров Эйюб Газрат-Кули оглы - экономист-бухгалтер, репрессирован[править]
1906 - 1973
Родился в 1906 году в г. Ленкорань (Азербайджан). Отец – Газрат Кули, торговец (ум. 1906). Мать – Сугра (р.1881).
После революции семья разорилась. В 1920-е годы начал работать счетоводом в райфинотделе, женился, родились сыновья - Фикрет и Мирза.
В 1930 году переехал в Баку и начал работать заведующим Бакинским финансовым отделом. Был избран членом президиума Бакинского Совета, членом Наркомфина.
В декабре 1937 года был арестован и заключен в тюрьму НКВД Азербайджана. После многочисленных допросов, избиения, пыток следователь Х. Халдыбанов предъявил обвинение. Несмотря на отказ подписать 31 марта 1939 года обвинительное заключение, был вынесен приговор Особого Совещания при НКВД СССР: 8 лет ИТЛ.
4 июля 1939 года начался этап на Колыму.В ноябре 1939 года прибыл в лагерь Бутыгычаг Тенькинского горнопромышленного управления Дальстроя. Условия содержания заключенных быди ужасные, но выручала помощь заключенных-кавказцев. Работал на строительстве рудообогатительной фабрики. Обращение в различные руководящие органы с просьбой о пересмотре дела результата не имели. Был направлен на строительство дорог.
В мае 1940 года был переведен в лагерь Сеймчан Юго-западного управления Дальстроя на строительство горнообогатительной фабрики. Работал учетчиком, экономистом-нормировщиком. Началась переписки с родными, разрешены посылки из дома.
Начало Великой Отечественной войны ужесточило режим содержания. Обращение на имя М.И. Калинина с просьбой об отправке на фронт осталось без ответа, был направлен на торфоразработки.
В июне 1946 года был освобожден с запретом выезда за пределы Колымы. Переехал в поселок Омсукчан, где работал по вольному найму экономистом. Вскоре приехала жена. Начал хлопоты о снятии судимости.
В 1949 году переведен на работу начальником отдела снабжения в Омсукчанское геолого-разведочное управление.А в 1950 году полученил разрешения на краткосрочный выезд с Колымы для лечения. В январе 1951 года поехал на лечение в Железноводск, а затем Кисловодск. Сумел нелегально встретиться с матерью, но обнаружил слежку. Не дожидаясь повторного ареста, досрочно вернулся из отпуска на Колыму. Начал работать в геологоразведке.
В 1956 году был реабилитирован и вернулся в Азербайджан.
С 1957 по 1963 год работал заместителем заведующего финотделом Бакинского совета. А в 1963 году вышел на пенсию.
В июле 1973 года Эйюб Багиров скончался.
Я родился в городе Ленкорань в Азербайджане.[править]
Менее года было мне, когда я потерял отца Газрат Кули. Несмотря на преуспевающее материальное положение отца, который был видным торговцем, после Революции, с раннего детства, я оказался в нужде и лишениях. Мать моя оказалась неумелой распоряжаться имуществом мужа. Неприспособленная к жизни, доверчивая и наивная по натуре, она быстро оказалась в окружении предприимчивых родственников мужа и вскоре сама была на грани нищенства, так и не узнав, куда так быстро исчезли ее материальные блага.
Я помню, в первые годы после Революции, еще мальчиком, от нужды превратился в мелкого торговца. Навесив на шею дощечку-лоток с папиросами "Рица", зазывая покупателей, я плутал по узеньким улочкам зеленого уездного города Ленкорань. Начав работу с простого счетовода в Ленкоранском райфинотделе в середине двадцатых годов, в 1930 году перебрался в Баку и вскоре выдвинулся на должность заведующего Бакинским финансовым отделом. В дальнейшем был избран членом президиума Бакинского Совета, был утвержден членом Наркомфина СССР. По этому поводу помню постановление Совнаркома СССР от 31 декабря 1936 года за подписью В.М.Молотова. Куда бы меня не направляли на работу, я старался честно и добросовестно выполнять свои обязанности.
Особенно тяжело было финансовым работникам в период раскулачивания в сельских районах, когда обобществлялись земля, скот и имущество крестьянина. Кроме принуждения, искусственно завышенные налоги дополнительно разоряли крестьянские хозяйства. Каким только приемам не прибегала власть, используя налоговую политику.
Припоминаю такой факт: власти города по указанию парторганов, велели закрыть единственную в Баку немецкую церковь-кирху, довольно достопримечательное здание в центре города, расположенное на Телефонной улице (ныне улица 28-го Мая). Различным ухищрениям прибегали власти и НКВД для закрытия кирхи; инспирировали наличие в кирхе антисоветского центра, утверждалось, что настоятели церкви и некоторые прихожане - завербованные агенты фашистской Германии и т.п. Попытки идти в лобовую в этом вопросе не привели к успеху, так как вопрос принял международный характер. На жалобы из Баку и из-за рубежа, в начале 1937 года вмешался с протестом небезызвестный всесоюзный прокурор А.Я.Вышинский. Наконец, нашли тихий путь решения вопроса. Обязали финансовые органы незаконно обложить церковь таким большим налогом, чтобы церковь оказалась не в состоянии его погасить и быстро разорилась, перестав функционировать.
Меня всегда мысленно сопровождал и такой факт из жизни, который мог послужить поводом для тирана республики Мир-Джафара Багирова велеть меня арестовать, хотя после моего ареста НКВД инкримировал мне официально "участие в антисоветской организации правых".
В один из осенних дней 1937 года звонит мне сам "хозяин" Мир-Джафар Багиров и поручает проверить финансовую деятельность бывшего Председателя Бакинского Совета Олина Арнольда Петровича. Дело в том, что большой сталинский террор в стране не миновал и руководство Баксовета. Так, осенью 1937 года из одиннадцати членов Президиума Баксовета остались на свободе лишь двое, в том числе и я. Остальные были репрессированы НКВД. Олин также был арестован недавно органами НКВД, как "враг народа".
Мир-Джафар Багиров дал мне срок один месяц для проверки и результаты проверки приказал доложить ему лично. В разговоре он сказал, что Олин кроме вражеской деятельности, занимался еще транжиро-ванием финансов Баксовета на личные цели, являлся морально разложившимся человеком. Проверив финансовую деятельность руководства Баксовета, спустя примерно месяц, я доложил Мир-Джафару, что в этом вопросе грубых нарушений не удалось обнаружить. Я хорошо помню, как Мир-Джафар Багиров резко оборвал меня ругательством и разговор прервал. Только когда наступила пауза по телефону, я ясно услышал его слова, обращенные по другому служебному телефону к наркому внутренних дел Сумбатову-Топуридзе: "Эйюба Багирова из Баксовета самого надо проверить".
Что последнее означало, я ясно себе представлял. Я тогда понял, что меня ожидает участь моих коллег из Президиума Баксовета и тысяч других лиц уже томящихся в застенках НКВД.
Мир-Джафар Багиров был верным сатрапом Сталина. На многих встречах и собраниях, а я помню одну такую встречу в Бакинском оперном театре, он называл Сталина "живым Лениным". Стиль и методы сталинского руководства им широко внедрялись в Азербайджане и малейшее возражение его замыслам в любых вопросах жестоко пресекалось. Мне помнится его кошунственное решение о сносе старейшего бакинского кладбища с многочисленными захоронениями, в нагорной части города и строительство на его месте парка культуры и отдыха имени С.М.Кирова. Нас работников Бакинского совета даже выводили на субботники по строительству этого нагорного парка. Однажды, я лишь успел поставить под сомнение, с точки зрения финансовых затрат, строительство на место кладбища нагорного парка, как меня угрожающее отдергнули из ЦК партии Азербайджана.
Арест[править]
Не пришлось долго ждать, и когда 22 декабря 1937 года под утро пришли за мной на квартиру трое энкаведешников и четвертый стоял на улице у машины "черный ворон", я понял - наступила моя очередь. Я только приехал из командировки, из Москвы, где состоялся годичный отчет перед Наркомфином СССР. Двое энкаведешников рылись в комнатах, другой составлял протокол обыска. Дворник дома как понятый сидел в проходной на стуле. Обыск производился формально, ибо искавшие наверное заранее знали, что ничего интересного для себя они не найдут.
Во время обыска я наивно спросил у старшего оперчекиста за что меня забирают. Он ответил мне, что у тебя будет беседа с наркомом внутренних дел, возможно и вернешься домой. Сбор личной одежды с собой и даже шерстяных носков, свитера, свидетельствовали, что забирают меня надолго. Тогда я невольно вспомнил вышеописанный разговор по телефону с Мир-Джафаром Багировым и знал, что последствия подобного разговора с ним мне не миновать.
На улице, уже рассветало, хотя день был зимний. Перед самым выходом у дверей я успел лищь сказать домашним, "вы знайте, я не в чем не виноват". В это время моя племянница Билгеиз, жившая у нас в доме громко заплакала. Я сам, где-то в глубине души, искренно полагал, что все, что происходит со мной это недоразумение, разберутся на месте и выпустят. Очевидно, также думали многие сотни тысяч не в чем неповинных людей, разделивших, в те годы, мою участь.
Проехав все еще безлюдные улицы города наш черный воронок медленно заехал через массивные стальные ворота здания НКВД на набережной.
Известное многим Бакинцам административное здание НКВД Азербайджана (дом на набережной) высокая 3-х этажная постройка, лишь внешне обрамляет находящееся внутри его двора, здание тюрьмы. Четырехэтажная тюрьма, довольно толстыми стенами, решетчатыми окнами, лабиринтом тянется по периметру этого здания. Здесь же во дворе котельная, автономное электропитание, гараж. Первый этаж здания тюрьмы занимали подсобные помещения, туалеты, душевые, помещение охраны, и т.п. Подвалы здания, бывшие в дореволюционное время винными погребами, выходят далеко к морю и использовались как камеры усиленного режима, карцеры.
По обе стороны длинных коридоров тюрьмы, разделенные на секции решетчатыми дверьми из толстых металлических прутьев с засовами, находились камеры на одного, двух и более десяти арестантов. Поскольку в 1937-38 годах арестов в Азербайджане было много, то камеры тюрьмы были переполнены арестантами. При открытии охранником решетчатых дверей коридорных секций загорало световое табло и срабатывала звуковая сигнализация.
Камеры с цементными полами выглядели как обычные; проем для подачи кормушки, над потолком тусклое освещение, прикрытое кожухом, глазок для наблюдения за заключенными. Решетчатые окна камер 30х40 см выходили в основном во внутренний двор тюрьмы. На втором этаже решетчатые окна камер дополнительно прикрывались металлическим козырьком, даоы кусочек неба не был виден. Некоторые помещения тюрьмы, вдоль коридора, входящие в светлую сторону двора использовались как кабинеты следователей.
В административное здание НКВД с его просторными кабинетами можно было войти как с улицы через парадные входы, так и незаметно с тюремного здания. Перила междуэтажных лестниц административного здания НКВД, куда иногда выводили на допрос политзека, с участием больших чинов НКВД прикрывались металлическими сетками, чтобы не допускать выброситься арестанту.
В эти годы повальных арестов, на пятачках улицы, примыкающей к зданию НКВД выставлялись вооруженные винтовками солдаты. Казалось, что власть делала все, чтобы ни при каких обстоятельствах арестант не выполз из этого зловещего здания. Ведь здесь путь назад, вновь на волю, казался, был отрезан навсегда и виновность должна быть доказана любыми средствами.
Позже от сокамерников я слышал, что смертные приговоры приводились в исполнение в самих подвалах НКВД или же в близлежащих недалеко от Баку, островах Каспийского моря, как остров Наргина и другие, где не было живых свидетелей, и выстрелы никем, кроме палачей не были услышанными. В моем уголовном деле мне инкриминировали, в основном, участие в антисоветской организации, возглавляемой А.П.Олиным.
А. П.Олин и обвинения против меня[править]
А.П.Олин - Председатель Бакинского Совета, латыш по национальности, партиец с 1918 года, был в числе латышских стрелков, охранявших Кремль, работал в политотделах Среднеазиатского и Закавказского округов. С 1931 года по 1934 годы являлся секретарем Закавказского Крайкома ВКП(б) по транспорту и снабжению. С 1934 по 1936 годы являлся постоянным представителем Закавказья при Совнаркоме СССР, жил и работал в г. Москве. Перевели его в г.Баку в 1936 году, и с июля того же года он был назначен Председателем Баксовета Арестовали его осенью 1937 года вызвав в Москву, а позже расстреляли в Тбилиси.
По существу я знал Олина А.П. всего несколько месяцев, по совместной работе в Бакинском Совете Был он человек не очень общительный, строгого нрава и требовательный в работе.
Уже позже, сидя в застенках НКВД Азербайджана, я понял, что Мир-Джафару Багирову и Сумбатову-Топуридзе нужно было от меня получить компрометирующий материал на Олина и я был арестован как участник мнимой контрреволюционной, антисоветской организации, во главе которой стоял Олин.
Я, как его сослуживец, якобы был завербован им. Мои допросы следователем Х. Халдыбановым начались буквально через 3-4 дня после ареста и начинались с вопроса как меня завербовал Олин в свою антисоветскую организацию, которая ставила целью свергнуть советскую власть, реставрировать капитализм и даже прибегала к диверсионной деятельности в народном хозяйстве.
Обвинения выдвигались самые нелепые. Назывались имена широкого круга лиц, среди них лица, о которых я понятия не имел. В несуществующую контрреволюционную организацию якобы входило около 20 человек: люди разных возрастов и профессий, работающие в различных учреждениях и предприятиях, в частности в Бакинском Совете, райкомах партии, исполкомах, на нефтепромыслах, в строительно-снабженческих организациях.
Чувствовалось, что я являюсь маленькой пешкой в политической игре Мир-Джафара Багирова и Сумбатова-Топуридзе в их намерениях любыми путями добыть порочащие показания на руководящих работников республики и Бакинского Совета. По показаниям ранее арестованных, председателя Баксовета Олина и его заместителя Кудрявцева, полученным в результате морального и физического воздействия на них, следователь каждый раз при допросе меня запугивал, угрожал расправой, требовал подтвердить конкретную дату (конец марта 1937 года), когда я был якобы завербован в антисоветскую организацию.
Помню, однажды меня привели к самому наркому внутренних дел Сумбатову-Топуридзе, который мне прямо сказал: "подтверди, что ты завербован в организацию Олина и мы тебя отпустим". Не получив ответа, он меня ударил по щеке и в этот день меня более суток держали по стойке смирно, применяя рукоприкладство до потери сознания. Неоднократно спускали в темный, сырой подвал, угрожая расстрелом, вновь загоняя в общую камеру. Сидя в подземельях НКВД, мы со временем научились перестукиванием через камерные стены по "азбуке арестованных" узнавать о последних новостях с воли и о том, кто появился новым арестантом НКВД.
Допросы следовали день за днем и для правдоподобности состряпанного обвинения, следователь каждый раз "вкладывал" новые "факты" от имени лиц, которых арестовали по "нашему делу". На мои неоднократные просьбы об очной ставке с этими лицами, следователь отказывался и не вызывались свидетели, подтверждающие мое участие в контрреволюционной организации. Со временем, к политическим мотивам ареста примазали, для сгущения "дела", факты якобы о грубых нарушениях мною финансовой, хозяйственной деятельности Баксовета.
Дело доходило до беспочвенных обвинений о том, что я якобы искусственно снижал и незаконно списывал недоимки с кулаков в г. Ленкорани и зажиточных крестьян на Апшероне, прикрывал финансовые преступления арестованных "врагов народа", препятствовал открытию новых ломбардов в г. Баку, чтобы озлобить население против советской власти. Действительно, в те годы тяжелое материальное положение населения заставляло людей закладывать личные вещи на хранение в ломбарды, чтобы свести концы с концами. Тогда в ломбардах города выстраивались длинные очереди и чтобы заложить свою вещь в ломбард, зачастую очереди занимались с ночи. Уходили дни, прежде чем сдашь свою вещь в ломбард.
Предъявляли мне смехотворные обвинения в том, что озлобленное население выражало недовольство по поводу подписки на государственные займы и я, как финансист якобы сочувствовал таким недовольным людям, и более того, свое возмущение высказывал в кругу работников Бакфинотдела.
Во время допросов я понял, что для получения на меня компромата, еще задолго до ареста, НКВД заставлял советские органы г.Ленкорани, отдельных лиц писать доносы-докладные на меня о моем прошлом, семейном и имущественном положении отца и т.д. По указке НКВД первичная парторганизация Баксовета написала на меня характеристику о том, что я поддерживал и имел порочные связи с "врагами народа".
Уже позже я, при первой возможности, из колымских лагерей писал много заявлений на имя руководителей страны и НКВД об абсурдности предъявленных мне обвинений. В одном из них даже указывал, что конкретная дата 25 марта 1937 года, когда я, якобы был завербован руководителями Баксовета в контрреволюционную организацию, председатель Баксовета Олин находился в Москве, а его заместитель Кудрявцев - на Украине, т.е. физически они в Баку отсутствовали.
Там, где словесная угроза следователя не помогала "расколоть" меня, в ход пускалось физическое воздействие, били резиновыми дубинками, шпорами кованых сапог до ран и кровотечений. У меня даже, до сегодняшнего дня сохранились на левой ноге шрамы от травмы, нанесенной мне шпорами сопога сержанта - чекиста. При этом, следователь наблюдая это садистское зрелище невозмутимо выкриковал "Нарком велел из тебя сделать яичницу".
Однажды я испытал на себе и широко используемый в НКВД для физического и психического воздействия на обвиняемых, допрос методом "конвейера". Поместили меня в одну из ярко освещенных электрическим светом комнат, стоял я на ногах, рядом табуретка, однако не имеешь право садиться. Следователи задавали примерно одни и те же вопросы, наподобие, "Это глупо не признаваться, есть свидетели письменно подтверждающие ваше участие в "антисоветской организации правых", отпираться не будете от очевидных фактов. Назовите кто еще участник вашей организации и ваша участь облегчится".
Я настаивал в качестве свидетелей допросить моих ближайщих работников Бакфинотдела и соседей по дому; Лунева С., Абдуллаева М., Алиева М., Акимова М., и других с кем я повседневно общался. Однако мои обращения оставались безответными. Так повторялся следующий круг вопросов, а я продолжал стоять на ногах, а следователи несколько раз менялись.
Наконец, измученным, в полусознательном состоянии, приводили меня в камеру. Так проходили день за днем 18 месяцев (около 600 дней и ночей) так называемого "предварительного следствия" в застенках НКВД Азербайджана. Менялись следователи (у меня их трижды поменяли), временами они смягчались - не допрашивали неделями, оставляли в покое так и не предъявляя обвинительного заключения.
Наконец 31 марта 1939 года я увидел состряпанное НКВД на меня "дело". Отказался подписать обвинительное заключение. После этого, "дело" дважды формально направляли в суд; однажды в спецколлегию Верховного суда Азербайджана, а в другой раз - военную коллегию Закавказского военного округа. Однако мое "дело" так и не рассматривалось на судах, как я был уверен, трудно было с доказательствами.
Но наша судьба политзеков тогда была предрешена заранее. 9 июня 1939 года, заочно Особым Совещанием при НКВД СССР я уже был приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей "за участие в антисоветской организации правых". 1 июля 1939 года мне объявили решение Особого Совещания. Вскоре, через несколько дней, начался наш длинный и долгий этап на Колыму. Все же где-то в глубине души мы рассчитывали, что партия во многом разберется. Этой надеждой и верой мы жили тогда, в те трудные дни жизни.
Этап[править]
Из Баку, кажется с 15 пристани (сейчас она снесена и на ее месте продлен бульвар - приморский парк), нас вывезли 4 июля 1939 года. Привезли нас на морскую пристань на тюремных машинах из находящихся недалеко подвалов НКВД Азербайджана, где я просидел уже более полутора лет.
Некоторые родные и близкие, узнав о нашей отправке по этапу, пришли на пристань. Виделись издали, махали руками, слезы на глазах, но конвоиры не давали возможность приблизиться. Мельком я увидел мать Сугру и дочь Лятифу.
Многие заключенные были помещены в трюмы парохода. Нас привезли в Красноводск, затем поместив в переполненные вагзаки и вагоны, в которых обычно возят скот, повезли дальше, не обявляя конечного пункта этапа. Вагоны четырехосные, зарешеченными окнами и трехэтажными нарами. В передней части вагона вооруженные конвоиры - надзиратели, вертухи. Они часто проводили проверки, заключенных считали, как скот, перегоняя с одной части вагона в другую. Иногда не выводили нас на оправу, что было противоестественно и зеки мочились и испряжнялись прямо в вагоне. У щелей дверей вагонов каждый из нас старался вдохнуть хоть глоток свежего воздуха, так как в вагоне была невыносимая духота.
Мы преодолели четырехмесячный путь по Турксибской дороге, миновали среднюю Азию, Сибирь, Забайкалье, и Дальний Восток. Жара и духота, непомерная теснота в вагоне, продолжительный этап и жизнь в проголодь делали свое дело. Ослабевшие, изможденные заключенные старшего возраста погибали в пути, и их трупы выбрасывали. Было немало случаев, особенно в средней Азии, когда жители сел и поселков узнав, что мы заключенные, пытались подбросить нам хлеб и другую пищу, но конвоиры не допускали этого. Наши вагоны часто отцепляли от состава и загоняли на безлюдные участки железной дороги, чтобы с нами никто не общался. Вокзалы оставались в стороне от наших жизненных путей. Из разговора одного конвоира мы, наконец, узнали, что конечный путь нашего этапа - Магадан.
Кроме репрессированных военных, среди нас оказались также немало заключенных из старых большевиков. Некоторых из них я узнал. Среди них был Ульянов Иван Васильевич (дядя Ваня), Ахундов Ширали, Каракозов Арменак, Агамиров Халил и другие. Здесь также проявилась сталинская "профилактика"; исключить из общества тех людей, которые хорошо знали революционную историю и имели о ней свое суждение.
Накануне отплытия из Владивостока в Магадан, последнюю ночь в пересылке мы не спали. Чувствуя наше настроение, к нам, к молодым, подошел "дядя Ваня" и по отцовски сказал: "Не унывайте, будьте сильными духом и смелыми в ожидающих вас трудностях. Сохраняйте свою преданность народу до конца и покажите себя в деле освоения этого необжитого края нашей земли". Он обнял и поцеловал нас, своих земляков, пожелав благополучия. Ульянова Ивана Васильевича я знал с юных лет, когда он в первые годы после революции в Азербайджане являлся ответственным секретарем Ленкоранского уездного комитета партии.
Знали его мы по Баку, как авторитетного работника бакинской партийной организации, революционера, члена партии с 1903 года. Ульянов говорил страстно и убежденно. Я вспомнил тогда взволнованную речь Ульянова, произнесенную им в декабре 1934 года, на траурном заседании Бакинского Совета в связи с убийством С.М.Кирова. Его язык был понятным и доступным для всех, будь то отсталый крестьянин, образованный интеллигент или религиозный фанатик. Я никогда не забуду его напутствие в то страшное время во Владивостоке.
Прощальный призыв этого обаятельного, мудрого человека вселял в нас оптимизм, в трудные годы пребывания на Колыме. Добавлю, что наряду с надеждой, маяком спасения на Крайнем Севере для нас оказался также труд. Труд подневольный, страшный, был потребностью самой жизни на суровом севере и оказался стимулом к самосохранению. Кто с самого начала это понял, тот оказался и победителем в единоборстве с жестокими и беспощадными нравами Крайнего севера.
В длительном этапе, среди заключенных оказались заболевшие и люди пожилого возраста, которых невозможно было использовать, "трудягами" на Колыме. Поэтому "энкаведисты" списывали их на материк. Некоторых из них оставили в пересылочных лагерях Иркутска и Владивостока. Многие не дотянули до срока заключения и нашли свою смерть в таежных лесах Сибири и Дальнего Востока. Примером тому - известный Азербайджанский писатель и драматург, незабвенный Гусейн Джавид. Он был тогда уже в возрасте, надломленный тюремной камерой, плохо видел. Больным он был отделен от нашего этапа в Магадане и позже отправлен в пересылочный лагерь Иркутской области. Ночью наш пароход отшвартовался от пирса Владивостока и взял курс на Магадан. Во Владивостоке мы оставили Ульянова Ивана Васильевича, Ахундова Ширали, Агамирова Халила и других товарищей.
На Колыме[править]
Здесь я должен особо сказать о колымских врачах. В абсолютном большинстве, это были люди высоконравственные. Медперсонал, лагерники их именовали "красный крест". Своей основной деятельностью эти люди считали активную помощь заключенным, иногда в самых невероятных условиях. Эта помощь была не только медицинской. Врачи и фельдшеры, кого-то устраивали на легкую работу, освобождали от физической работы, рекомендовали после больницы на посильную работу и многое другое делали они, верные по-настоящему, клятве Гиппократа.
Слабым, истощенным "фитилям" и "доходягам", как их именовали в лагере, при случае, эти товарищи передавали кусочек хлеба, щепотку махорки кусочек сахара и другое необходимое, чтобы сохранить жизнь человеку. От их деятельности, в немалой степени зависела судьба заключенного. Ведь они, зачастую, определяли степень способности заключенного к труду, устанавливали трудовую категорию, могли помочь увеличить скудный арестантский паек, уложить в больницу и устроить инвалидность с выездом на материк.
Прошли годы, но я всегда с благодарностью вспоминаю этих чудесных товарищей-медиков по горькой судьбе, которые делили с нами тяжелую жизнь на Колыме; в их числе были и мои земляки: профессор А.Атаев, М.Шахсуварлы, М.Махмудов и другие.
Еще в транзитном лагере под Владивостоком внезапно заболел наш земляк бакинец Газанфар Гарягды (Карягды), который своими задушевными песнями поддерживал нас на всем пути следования этапа. От холода он дрожал и посинел.
Наши военные товарищи "блюхерцы" из Дальнего Востока забеспокоились. Несмотря на холодную погоду сняли свои куцые шинели, настелили на пол и накрыли им больного Газанфара. Нашелся среди зеков и "Красный крест". Мы по очереди ухаживали за ним, пока он не пришел в себя. Эти поистине братские отношения друг к другу в критическое время спасали жизнь заключенного.
На Бутыгычаг, Тенкиского Управления Дальстроя[править]
Наступили сумерки, когда наша колонна автомашин стала подъезжать к первоначальной базе, расположенной в предьгорях сопки "Подумай". Мы держали путь в Бутыгычаг, Тенкиского Управления Дальстроя, об этом нам стала известно в пути. Там шло строительство обогатительной рудной фабрики. Забегая вперед скажу, что начальником строительства фабрики являлся наш земляк бакинец Ахундов Мусеиб Джафар оглы[1]
Чтобы попасть в Бутыгычаг, надо перевалить гору "Подумай" с несколькими гайкообразными фионтинами, протяженностью около 15 км. Наша колонна автомашин с зеками растянулась по таежной дороге. Уже темнело, когда нас привезли к перевалочной базе, расположенной в предгорье "Подумай". Перевал был закрыт из-за метели и снежных заносов, на машинах проехать невозможно. Значит, мы не проскочим, опоздали. Поэтому нам теперь придется топать пешком на собственных ногах по льду и снегу. Ночь провели на перевалочной базе в палатках, самое главное, немного выспались.
Нам повезло, к утру метель на перевале утихла и уже при солнечной погоде мы стали подниматься на гору "Подумай". Мы буквально ползли, изнемогая, готовы были избавиться от страшной тяжести одежды. Подъем был трудный. Чтобы легче нам было ходить, пришлось распроститься с кое-какими "лишними" вещами личного пользования. На склонах серпантина лежал не только свежий снег, но и затвердевший ледяной покров прошлых лет. Здесь я впервые увидел изумительное зрелище гор, заполнившие все пространство во всех направлениях, до самого горизонта. Вспомнил родной Кавказ. От этих снежных горных вершин испытываешь какое-то свежее дыхание, становишься несколько легким и хочется подняться выше и полететь над горами все дальше и дальше как одинокий орел.
Наконец, мы одолеваем последнюю седловину перевала и перед нами открывается серебристая таежная долина. С жадным любопытством озираем эту красивую панораму низменности с ее осенним золотым и местами серебристым покровом. Змееобразные горные речушки и их далекий шум уводят человека из тоски в веселье и из веселья в тоску.
Трудно передать наши переживания в эти минуты, когда ты находишься в красивом уголке земли, но везут тебя служить ей в сопровождении конвоиров с ворчливыми овчарками, невинно осужденного, с клеймом "врага народа". Невыносимо больно переносить эту горечь несправедливости. Но вскоре мы прозрели и поняли, что "политические" в лагере, выдуманные вооброжением власти, образ "врага народа", с которыми однако государство расправлялось как с подлинными врагами: расстреливало, морило голодом, изнуряло нечеловеческим трудом. Немного дав передышки на вершине горы, конвоиры объявляют спуск. Мы начинаем неохотно спускаться, хотя спуск проходит значительно легче, чем подьем. Спуск преоделеваем незаметно, начинаем здесь чувствовать близость жизни: очаг и труд.
Почему труд? Возникает в нашем положении опять вопрос. Да потому, как убедился я позже, без труда в этих дремучих таежных местах человек опусташается, разлагается и быстро теряет свой облик. Я видел таких людей, особенно среди блатного мира. Они пытались не трудиться, а на чужом горбу прокатиться в рай. Но они согнулись быстро и позорно. В этих местах человеку невозможно жить без труда. Труд помогает спастись ему. Очевидно, и поэтому создатели архипелага ГУЛАГ гениально решили рассыпать лагерья в самых диких и таежных местах, куда практически не ступала нога человека, дабы обеспечить необходимость труда, причем дармового. Не потрудишься, не обживешь дикую тайгу, подохнешь, прежде всего, от голода.
Солнце скрылось за горами, когда мы добрались на противоположную сторону перевала и очутились в девственном лесу с высокими лиственницами. Здесь размещались полевые геологические партии с тремя утепленными палатками. Недалеко, в лесу стояли еще два больших срубленных барака с крышами, закрытыми мхом и засыпанными камнями, видимо для транзитников. Мы были в восторге от возвращения к барачной цивилизации. Ведь прожили мы в тюремных камерах, в трюмах пароходов, в клетках вагонов для зеков (вагзаках), и в палатках пересыльных лагерей.
Поместили нас в бараках. В бараках нам удалось развести костер, вскипятить воду и умыться впервые теплой водой. В середине барака стояла железная бочка - печь, горело несколько консервных банок. Их называли "колымками": самодельные лампы на бензиновом пару. Мы сгруппировались, торопились поскорее поесть и лечь спать, когда в наш барак зашли двое, одетые по северному тепло. Здороваясь, они спросили "нет ли среди нас лиц из Кавказа?"
Получив утвердительный ответ, они подошли ко мне близко и мы познакомились. Один из пришельцев был из Баку, звали его Мамедага, а второй из Грузии, звали его Валико. Выяснилось, что эти молодые ребята прибыли на Колыму за год до нас, преодолев трудности, успели обжиться, и благополучно провести первую зимовку. Работали они в полевых партиях геологоразведки и были друзьями. Теперь в связи с окончанием летних полевых работ, продолжали нести службу у геологов, и жили они в приспособленных к зиме палатках. Оказывается, они всегда среди транзитных заключенных и новоселов, разыскивали кавказцев, чтобы разузнать весточки о родных краях и при необходимости, чем-то им помочь.
Такое правило заведено было среди колымчан, особенно южан, - разыскивать своих земляков среди прибываемых из материка заключенных, часто не считаясь с жесткими порядками их режима. С разрешения охраны они взяли меня и моего товарища к себе в отапливаемую палатку. В первую очередь мы побрились, они накормили и напоили нас свежезаваренным чаем. Начали с нами беседу о жизни в этих местах "чудесной планеты", в частности о порядках в долине Бутыгычаг. Мы просидели за душевной беседой до поздней ночи, учитывая нашу усталость, они вскоре попращались и провели нас до нашего барака.
Рано утром, когда конвоиры нас подняли дальше в путь, наши земляки вновь оказались возле нас, принесли нам в дорогу кое-какие продукты питания. Мы были очень тронуты их заботой.
Примечание:
- ↑ Спустя 10 лет, в 1950 году я вновь встретился с Ахундовым Мусеибом в поселке Омсукчан, где он работал уже начальником горнопромышленного Управления Дальстроя, а я в геологоразведочном Управлении того же района. Встретились мы уже в ином положении - я был вольнонаемным. На вид всегда строгий и малоразговорчивый, теперь он изменился в отношении ко мне, помогал мне в работе, не только как земляк, но как добрый сосед..
Михаил Якубашвили и Гусейн Зейналов[править]
Накануне войны, у нас в отдельном лагерном пункте ОЛП №3, с этапом появился грузин по фамилии Якубашвили Михаил Андреевич. Был он средних лет, но с отпущенной бородой, выглядел красивым мужчиной. Был он человеком эрудированным: профессор, окончил два факультета: юридический и экономический. Длительное время работал в органах ЧК-ГПУ Закавказья и затем в Москве.
В последний период он был на преподовательской работе в школе НКВД, где его арестовали уже по делу Ежова, осудив Особым совещанием, отправили в исправительно-трудовой лагерь на Колыму.
Очевидно, он много знал и перевидел, однако держался молча и сдержанно. Дружил он только с нашим земляком, фельдшером Зейналовым Гусейном, которого он знал оказывается еще по Закавказью. Через Зейналова мы с ним познакомились и жил он с нами в одном лагерном бараке. Положение подобных лиц, энкеведешников, в лагере было незавидным. Мы ему по-человечески, как могли, помогали и по возможности остерегали.
Ведь судьба этих людей также была неоднозначной, так как зачастую энкеведешники сами оказывались "жертвами" своих же людей, часто "козлами отпущения" репрессивного аппарата. Примерно 10 дней спустя после начала войны, у него при обыске на вечернем разводе обнаружили газету "Металл Родине" районного масштаба, орган политотдела Юго-Западного Управления Дальстроя. На вахте подвергли его допросу и, узнав, что он за лагерник, повели к начальнику лагеря капитану Чудакову Ивану.
Чудаков был направлен по путевке НКВД на работу начальником лагеря из Москвы. По-видимому, он уже раньше работал в органах НКВД. Чудаков затребовал формуляр заключенного, и пока ему его принесли, он начал допрос: - Зачем тебе газета, ведь ты в изоляции, - задает он вопрос Якубашвили. - Газету издают для того, чтобы ее читали, - отвечает он. - Ты ее не поймешь, заключенный в твоем положении может только дезинформировать и мутить голову людей, используя газету в антисоветской агитации. Ведь за такие дела мы будем расстреливать - объясняет Чудаков.
Хочу отметить, что начальник лагеря Чудаков являлся в то время и секретарем парторганизации всего этого куста - производства и охраны. Вот характерные для того времени слова и поступки карателя и одновременно партийного вожака-воспитателя. Чудаков поднимается, пристально разглядывая Якубашвили велит вызывать парикмахера и снять ему бороду, так как в лагерях отпускать бороду нельзя. Якубащвили, сопротивляется и просит этого: не делать, поскольку он горец это их национальный обычай.
В это время приносит охранник формуляр. Якубашвили. Ознакомившись с данными заключенного, он узнает в нем своего преподавателя. Допрос превращается в диалог и. он велит всем разойтись и дает указание оставить его в покое с бородой. Разговор продолжается; в другое тоне, ведь встретились два знакомых, ученик со своим учителем. Такие парадоксы не исключались в лагерной жизни.
Через пару часов, в, барак заходит Якубашвили с несколькими пачками махорки, в которых мы очень нуждались. Он сам не курит, выпросил для нас. Разумеется, мы стали сомневаться в нем. Не является ли он осведомителем в лагере, ведь такого брата нам подсаживали первых дней ареста, от следственной камеры внутренней тюрьмы НКВД в Баку до Колымских лагерей.
Дальнейший ход событий показал, что наши опасения, в данном случае, оказались беспочвенными. Но наученные тюремной и лагерной жизнью, мы ухо держали всегда остро. Примерно через месяц после случившегося, Якубашвили: вызвали из лагеря и увезли в неизвестном направлению.
1942 - 1945[править]
Мы стали регулярно получать письма от родных и по праздникам телеграммы. Из писем мы узнавали о потерях близких и родных на фронтах Отечественной войны. Когда фронт был уже на подступах Кавказа, в 1942 году, я вновь обратился к начальнику политуправления Дальстроя МВД СССР, комиссару госбезопасности Сидорову с просьбой отправить меня на фронт. Опять был ответ "спасибо", тыл тоже есть фронт.
Весною 1942 года, большому мосту на реке Сеймчан, находящемуся между фабрикой № 3 и поселком, угрожала опасность. Начавшийся ледоход вот-вот снесет быка, мост развалится и это угрожало всему производству в военное время. Надо было аммоналом взорвать скопление льдов и предварительно протянуть запальный шнур под мостом. Два зека добровольно взявшись за это дело, связав себя веревкой к перилам моста рискованно спустились под мост. Жутко было смотреть на эту картину, вода и лед бурлят и воют. Возились они примерно 30-40 минут, сделав свое дело с большим трудом поднялись наверх на мост. Буквально только удалились с моста, как грянул взрыв. Путь свободен по мосту.
Такая операция не только опасна для жизни людей, но и малейшая неточность в закладке амманола, могла бы поднять на воздух мост. Оценивали ли труд нашего брата и доверяли ли нам в эти дни войны, когда над страной возникла смертельная опасность. Отвечаю неоднозначно, да и нет.
Был у меня друг - Исмаилов Алескер из Туапсе. Он возглавлял многостаночников в главном корпусе фабрики. Позже, стал сменным мастером. Он потерял почти всю свою семью, погибли на фронте его сыновья. Надо было видеть, как честно он трудился, отдавая себя до последнего, нелегкой работе на фабрике, проявляя огромную выдержку. К марту 1942 года в лагерь вновь стали возвращатся некоторые из наших товарищей, увезенные скрытно в ночное время в первые дни войны о чем я ранее писал.
Вернулось несколько заключенных мне знакомых кроме нашего дорогого Зейналова Гусейна, он погиб в штрафном лагере прииска "Золотистый" от воспаления лёгких.
В Сеймчане я встретился в ту пору с бакинцем Асадом, проживал он до ареста в нагорной части города, позже там его дом снесли, построили телетеатр. Он меня при возможности "подкормывал", так как в Сеймчане работал в столовой. Освободившись в 1947 году, он возвратился в Баку. Я с ним впервые передал личное письмо и нашу совместную фотографию для передачи матери, что он и выполнил.
Я освободился из лагеря в июне 1946 года, т.е. пересидел шесть месяцев и волею судьбы оказался не сгнившим на Колыме. Спасением моим, отчасти послужила моя специальность экономиста-бухгалтера, так что я в меньшей степени оказался на физической работе, в открытых таежных условиях, хотя и перенес все ужасающие условия и унижения лагерной жизни.
Лагерь - не школа воспитания, он во многих отношениях опустошает человека, разрушает социальные, моральные его устои.
Все же многие из, нас Колымских, зеков оставались людьми, сохранили человеческий облик. При освобождении, как и у других политзеков, у меня в документах стояла ограничительная надпись о моем закреплении за Дальстроем. Передо мною, как и перед тысячами другими, стояла дилемма: что делать дальше?
Колеблясь в течение нескольких месяцев, я пришел к решению, что как бы ни тяжелы были условия Крайнего Севера, мне будет лучше, если я сделаю вызов жене, чтобы она приехала на Колыму. Она по образованию инженер-экономист и могла бы устроиться на работу в этих краях. Посоветовавшись с близкими товарищами, которые уже вызывали свои семьи, я решил сделать вызов через отдел кадров Юго-Западного управления Дальстроя. Начальник отдела кадров, Берщацкий одобрил мой шаг и при мне оформил ей вызов из материка. Я уже работал старшим экономистом по труду на фабрике № 3 и там же заключил трудовой договор с Дальстроем.
При разговоре с Берщацким, он предложил мне работу в Омсукчанском Горнорудном комбинате, где идет еще строительство, в СЭК - строительно-эксплуатационной конторе в должности нормировщика по труду и зарплате горнорудного комбината. Работа эта была почти самостоятельная, и здесь он мог использовать мой опыт работы по строительству фабрики в Сеймчане, да и знания мои экономиста были неплохие.
Ведь фактически моя молодая сознательная жизнь прошла на поприще экономиста-финансиста (хорошо знал я бухгалтерский учет). Места Омсукчанской зоны были для жизни более благоприятные: имелась там рыба, оленина, дичь для еды. Никишанов Василий Никитич, начальник отдела труда и зарплаты Юго-Западного Управления тоже посоветовал мне лучше работать там. Я согласился с таким решением и вернулся на фабрику, захватив несколько своих папок для сдачи дел. Это был март месяц 1947 года. На фабрике, каким-то образом, уже знали о моем переезде в Омсукчан.
Освобождение. Что делать дальше?[править]
В этих местах, долина реки Сеймчан широкая и при пурге ветер свирепствует с особым гулом. Мы, преодолевая все, двигались вперед, останавливались лишь на минуты, чтобы снегом протереть лицо, дабы не обморозить щеки и нос. Обессиленные, помогая друг другу, мы продолжили свой путь, по инстинкту находя маршрут, стараясь не сбиться с пути. Наконец,увидели мы огоньки фабрики. Мы находились уже 2-3 километра от поселка, на повороте реки возле аммональных складов.
Огонек, огонек! Какая у тебя могучая сила, для путника. Мы буквально ожили, появилась сила и спокойствие. Ведь жизнь на Крайнем Севере знает немало случаев, когда путник в пургу завершая долгий путь, погибает не дотянув, буквально несколько сот метров до дома. С трудом добравшись до жилья, мы увидели тревожные лица наших друзей, Исмаилова Алескера
Выпив кружку крепкого чая, отдохнув 2-3 часа, мы пришли в себя. Я видел немало чрезвычайных событий в нашей Колымской жизни и этот случай напомнил мне о них; ведь и мы бы оказались на грани гибели, если чуточку изменили маршрут. Коллективно, с друзьями, мы на скорую руку состряпали пельмени и впервые за много лет азербайджанские кутабы.
Главным врачом Омсукчанской лагерной зоны был Махмудов Мамед-Халаф, человек внешне суровый, но душевный, преданный своему долгу врач. Его кристальной честностью и гуманностью в отношениях к людям можно было гордиться. Парадоксом являлся то, что он жил под одной крышей, т.е. в одном доме с Носовым, хотя их "социальное положение" были разными. Носов начальник лагерей Омсукчанской зоны, Махмудов в прошлом сам "лагерник".
Надо сказать, что вышедший на волю, теперь договорник Махмудов даже подружился с Носовым. Бывая на квартире Махмудова Мамед-Халафа, я даже видел Носова у него дома. Всем тем лагерникам, которые месяцами болели и отлеживали в зоне, мы с ним сообща подбирали соответствующую легкую работу с применением максимального коэффициента к нормам питания, исходя из их физического состояния.
Когда я прибыл с сенокоса, мне вручили телеграмму из Владивостока от жены. Она выехала из Баку и почти после месячного пути поездом приехала во Владивосток и ждала парохода в бухту Нагаево в Магадан. После прибытия, к вечеру я доложил руководству СЭК об организации работы по сенокосу, доставке рабочей силы и показал расчеты нормы труда по сенозаготовке.
Приняв проведенную мною работу начальство горнорудного комбината решило "меня безвыездно держать в тайге, погнать в "таежную командировку", пока не кончится сезон сенокоса. Я попытался объяснить приезд жены ко мне начальнику комбината Азреиль Марк Ароновичу, но получил ответ, что все необходимое для ее отправки из Магадана в Омсукчан будет предпринято, а я должен поехать на сенокос. Путь ей предстоял до Омсукчана, по тем временам, сложный.
Из Владивостока - бухта Нагаево, затем транзитом Магадан, далее сотни километров на автомашине в Среднекан. Из Среднекана на моторной лодке двое суток по реке Колыма до Сеймчана. Оттуда самолетом У2 в Омсукчан. Надо было полагать, что в Сеймчане хлопот будет много, самолета ждут сотни людей в глубь Колымы. Ведь это женщина с юга, среди этих простор Крайнего Севера - впервые, и ей будет тяжело.
Я собирался утром рано выехать в тайгу Меренга на сенокос. Перед отъездом выделили мне одну комнату в доме ИГР и начальство рудника поручило обеспечить, в связи приездом жены, принадлежностями первой необходимости. Рядом со мной по соседству жил Пуринсон с семьей. Я оставил ему немного продуктов для первых дней пребывания жены, так-как в то время была в Омсукчане для вольнонаемных карточная система. Организовать встречу самолета У2 взялись мои друзья Мамед Халар, Иосиф Макаров, Владимир Ходаковский и Дмитрий Степанов. Я на всякий случай подал телеграмму в аэропорт Сеймчан своему другу Тильману Иосифу с просьбой встретить жену. Рано утром на попутной машине я выехал в тайгу и была ночь, когда миновал поселок автобазы.
Встреча с женой[править]
Целое лето я проработал на сенокосе. Было середина августа, поздно вечером в хозяйство Малаканова приезжает сам Евгений Александров и сообщает мне новость, что жена уже приехала в Омсукчан. В первую минуту какая-то растерянность охватила меня и Малаканов стал второпях помогать мне собираться в путь. Я с Евгением приехали к нему на радиостанцию и он связал меня с политуправлением рудного комбината. Зам. политотдела комбината Стесов Василий разрешил мне выехать. Магомед Булгачов тут как тут, в нужную минуту. На его "студебекере" выехали мы ночью. Рано утром (хотя день начался давно) проезжая мимо рудника "Галимый" мы заехали в горняцкий поселок за нашим земляком Азизом Новрузовым. Он был готов, ждал меня и все вместе продолжили путь в Омсукчан.
Через час мы были дома. Цветов и прочих подарков из "магазина" у нас, естественно, не было, зато мы захватили жене подарок особого порядка на Колыме, северные женские сапожки. Жена встретила меня без слез, но очень задумчиво, радостно и грустно. Видимо эти места для нее были диковиной, экзотика была непривычной, условия жизни омрачающие. Потом она мне открыла причины грусти "вот в какие места загнали людей и как они ужасно выглядят". Оказывается Иосиф Тильман в Сеймчане вне очереди посадил ее на самолет У2 и отправил в Омсукчан. Сколько мытарства и трудностей она испытала в пути; поездом месяц, пароходом неделя из Находки, транзитный городок Магадана, трехсуточный путь на открытой машине по колымскому тракту, Уст-Среднекан, оттуда по реке Колыма - двое суток на моторной лодке, наконец, Сеймчанская тайга, аэропорт.
В пути из Баку, она находилась более 2 месяцев. Ей еще повезло, что в Находке она познакомилась с несколькими семьями, также выезжающих в Омсукчан. В Сеймчане на последнем участке ее пути, благодаря Иосифа Тильмана ей особо не пришлось ждать. Ведь летали 2 самолета У2 с двумя пассажирами на борту по 3 рейса в день, а число ожидающих было около 300 человек.
Вот наконец, после 10-летней разлуки, я вновь встретился с женой. Пока я был в "Меренге", в аэропорту встретили ее мои друзья и окружив вниманием, привезли домой. В наших условиях так было заведено всегда, встречать заботливо семью из далекого нам материка. Но мои друзья перестарались. Макаров Иосиф Григорьевич сделал до моего приезда домой, абажур для освещения, принес бак с водой. Махмудов Мамедхалаф с женой, Ходаковский Владимир, Степанов Дмитрий, наши кавказцы заходили и осведомлялись о здоровье жены и предлагали свои услуги чем ей помочь.
Вернувшись в Омсукчан, я начал свою работу в конторе по нормированию и оплаты труда. Жену зачислили на работу в плановый экономической отдел конторы. Работа ее помещалась рядом, в 30 метрах от дома ИГР, где мы жили. Начальник ПЭО был Киреев Василий, выходец из Новороссийска, по натуре был ограниченный и замкнутый человек, его прозвали "человек в футляре" по Чехову. Хотя он был договорник, по образованию экономист, но для производства приносил мало пользы. Он все время мечтал "иметь кубышки" и купить на материке дачу со всеми удобствами. Я не хотел, чтобы жена работала под его начальством и вскоре ее перевели на работу в ОНТЗ, отдел нормирования труда и зарплаты.
Лето рудник завершил выполнением плана металлодобычи и промывки, неплохими показателями и началась подготовка к надвигающейся зиме. Приходилось нам спать по 5-6 часов в сутки, остальное время на бегах, часто ездил в тайгу. Очень изнурился, утомленный работой по разбросанному хозяйству СЭК. После медосмотра по совету врачей вылетел на лечение на колымский курорт "Талая" на северо-востоке Магадана; примерно в 250 км по главной колымской трассе.
В аэропорту познакомился с начальником аэропорта Гипоновым Иваном. Ведь на материк нам выезд был запрещен. На борту самолета У2 - кукурузника, вдвоем, я и летчик Шувалов. Летим над тайгой и рекой Бюунда. Наконец, прилетаем в Сеймчан, таежный поселок, центр Юго-Западного Главного Управления Даль-строя. Там не без помощи знакомых товарищей, пересаживаюсь на катер, и плыву по Колыме до Усть-Среднекана. Утром на попутной машине добираюсь до Стрелки и теперь в гостях у моего земляка Велиева Гусейна.
Вновь на попутной машине с несколькими горняками ночью добираемся до Талая. Здесь среди снежных колымских хребтов в тайге бьет горячая целебная вода. В начале тридцатых годов в этом месте был построен по тогдашним временам благоустроенный курорт. Здесь, лечатся больные со всей Колымы и даже прилетают с материка. Приезжают сюда, как говорили мне, люди на костылях, а уезжают здоровыми, оставляя свой недуг "таежным шаманам". Трудились на курорте, в основном, мужчины, в те годы много бывших военнопленных. Среди них было немало кавказцев, с которыми подружился и в свободное от лечения время, я их посещал. Очень им было тогда трудно от тяжбы их "непонятного положения". Ведь многих обманули, обещав возвращение на Родину, к родным очагам, к семье, а получилось, что после перехода границы родины, загнали за колючую проволоку, погнав за тысячи километров на Колыму.
Я даже некоторым из них писал заявления на имя Сталина, Ворошилова, Жукова, Рокоссовского с просьбой разобраться в их военной судьбе и освободить из лагеря. Среди них, большинство были безвинные, и они мужественно воевали в Отечественную войну. Многие из них не знали, где и что с их семьями. Переписка им была строго запрещена. О некоторых азербайджанцах я написал в Баку своей матери, чтобы она по возможности разыскала их семьи и сообщила бы им сведения о них. У некоторых из центральной России и Украины я взял адреса, чтобы по возвращению в Омсукчан через их земляков попытаться дать о них знать семьям. Позже я узнал, еще будучи на Колыме, что некоторые из них были освобождены и вернулись домой. Мне думается, кто был в их положении или рядом с ними в тогдашних дальних местах заключения, могли бы их понять и глубоко посочувствовать им.
Помнится один кавказец очень грустно напевал из "Саят Новы", а татарин любил петь свою народную песню "Орман кызы". Почти целый месяц я провел с ними на "Талае" и потом долго еще с некоторыми из них переписывался. Уже позже в 1956 году, когда после реабилитации, я работал в совхозе "Дукча", находясь в 8 километрах от Колымской трассы в отделении совхоза "Сплавная", я как-то с моим другом Владимиром Ануфраевым специально заехал в "Талая", чтобы повидаться с тогдашными знакомыми из бывших военнопленных, азербайджанцев, и разузнать о их судьбе. Кроме одного товарища других уже не застал. Мой знакомый из тогдашних, азербайджанец Шукюр успел пожениться и имел двух детей. Я думаю то, о чем сейчас я пишу в этих строках, кое-кому из тех лиц Колымского прошлого удастся прочесть.
После излечения в "Талае" я возвращался по той же дороге домой. По пути в Сеймчан я остановился на "Стрелке" и вновь встретился с Гусейном Велиевым, и он задержал меня в гостях у себя два дня. Из Усть-Среднекана до Сеймчана я плыл быстро на быстроходном катере-глиссере, однако домой в Омсукчан все. же добирался долго. Пришлось в Сеймчане задержатся несколько дней в ожидании самолета У2.
Наконец, в один из ранних дней, мой знакомый по аэропорту Запасный посадил меня на самолет и через полтора часа лету я был в Омсукчане. Лечение мне помогло и самочувствие мое улучшилось. Друзья и земляки за мое отсутствие в Омсукчане окружили вниманием мою жену и даже помогли подготовиться к зиме. Присутствие жены в Омсукчане позволило, впервые за длительные годы, даже сделать некоторые заготовки к зиме: кедровые орехи, маринованные грибы, даже сварила варенье из джимулусы.
Попытка выезда на материк и возвращение. Болезнь жены[править]
Состояние здоровья требовало серьезного лечения и была предпринята попытка выехать на материк, которая после всяческих перепетий увенчалась успехом, но пребывание в санатории Минеральных вод было таким сложным из-за правил режима, что вскоре пришлось вернуться в Магадан.
Прибыли в Магадан ночью под утро и удачно устроились в центральной гостинице. Утром мы познакомились с нашей бакинкой, женой старого партийца, заслуженным в республике человеком бывшим управляющим "Азнефть", позже Главнефти СССР, в 1937 году уничтоженного Ежовым и Багировым. Она работала уборщицей гостиницы, что безусловно тяжело расстроило нас. Мы вместе пообедали с нею, в нашем номере гостиницы и свободное от дежурства время, она проводила с нами.
Через нее, мы познакомились в Магадане с Ниса ханум, женой крупного деятеля Закавказья Самедага Агамали оглы. В январе 1968 года в Баку отмечали 100 летие со дня рождения Агамалы оглы и из Москвы приехала на юбилей уже реабилитированная Ниса ханум. Она живет в Москве, так как ее покойный муж в последние годы своей жизни работал в Москве, в качестве одного из пяти Председателей ЦИК СССР.
<При дальнейшем полете самолет потерпел крушение, но все пассажиры остались живы и добрались до места назначения. Обыденная жизнь продолжалась.>
В разгаре работы, летом 1952 года меня постигла неприятность. Жена заболела с подозрением на рак легких. Доктор Гольберг, крупный врач Москвы, очутившийся в этих местах, в 1936 году по нашему набору, обследовал ее в условиях нашего поселка и рекомендовал безотлагательно вылететь в Магадан, где имелась возможность установить окончательный диагноз.
Разгар отпусков на материк. Самолеты летают нерегулярно, билеты давно распроданы. Начальник политотдела Управления - Жиленко Иван Макарович инженер-полковник дает указание начальнику аэропорта Иванову Василий Васильевичу при всех обстоятельствах отправить нас первым же рейсом в Магадан. Указание выполнено, мне выделяют билет на самолет из брони политотдела Управления. Этому способствовало и мое дружеское отношение с Васей Ивановым. Как видите протекция хорошо эксплуатировалась и в Колымских условиях.
С Васей, мы не раз встречались в трудных условиях работы в Омсукчане и подружились. Парень жизнерадостный, компанейский. Первым выражением его при встречах со мной, было неизменно "примите мой персональный привет". К моему счастью самолет прибыл во время и мы со своим багажом первыми подымаемся на самолет. Хотим занять наши места, но мое место занял начальник рай отдела милиции, и не хочет освободить, довольно упрямый капитан. "Я срочно должен вылетать по оперативным делам в Магадан" заявляет он Иванову Васе.
Все попытки начальника аэропорта и других пассажиров объяснить мое тяжелое положение, он пропускает мимо ушей. Вылет самолета задерживается. Каким-то образом в аэропорту оказывается Жиленко и он узнает в чем дело и причину не вылета самолета. Поднимается он в самолет, буквально берет за шиворот этого капитана милиции и толкает к выходу в дверь. Капитан оказался пьяным, моментально отрезвел и ворча покинул самолет и я сел на свое место. Очевидно начальник Райотдела милиции знал нравы Ивана Макарыча Жиленко, горняка из Донбасса и шутить не любил. Я этот случай долго запомнил.
Прибываем в Магадан к вечеру. В тяжелом настроении, я прямо с аэродрома приезжаю к своему знакомому Кутузову, бывшему начальнику отдела нормирования труда и зарплаты ОНТЗ Омсук-чанского ГРУ, теперь работает в Главном Управлении в Магадане. К нему же домой приехали Сергей Летов с женой, бывший начальник Политотдела Управления в Омсукчане, теперь также работал в Магадане, в Главном Управлении лагерей, в политотделе. На утро, мы с женой направляемся в спец. поликлинику №2 офицерского состава Дальстроя. Обращаемся к главврачу - женщине кавказского очертания.
Читая эпикриз жены, главврач уточняет откуда я? Узнав, что я из Баку, радостно отвечает, что она тоже из Баку. Значит мы земляки, это уже половина дела в наших условиях. Созывает для осмотра жены кого нужно из врачей и после консультации меня успокаивает, что страшного нет. Потом, заявляет, что завтра мы ее отправим в городскую больницу, где хирургическим отделением руководит землячка вашей жены осетинка Тоболова Вера Александровна, опытный хирург. Что же, я рад что нашел помощи земляков кавказцев в эти трудные для нас минуты. Утром мы в горбольнице и оформляем жену на госпитализацию.
В этот момент появляется в приемной смуглая, похожая на казачку женщина с волевым выражением лица. Она увидев меня спрашивает, "что же дорогой кавказец вы так раскисли, разве так можно?. Твоя жена моя родная осетинка, я еще свои адаты не забыла, вот вам мой адрес, можете жить у нас, пока жена выпишется из больницы. Дома тебя будет встречать мой муж с дочуркой". Первый момент я растерялся, потом разузнав когда она пойдет домой, предложил ее подождать, и пойдем вместе. Она согласилась.
Через пару часов, я, Вера Тоболова, Владимир Кутузов вышли на улицу, взяв доктора под руку, направились в центр города. Городская больница Магадана в те годы находилась в Морчекане, за парком. Один из известных врачей на материке, служивший в Магаданской больнице по "путевке" Ежова отличался не только высоким врачебным искусством, но совершал чудо, выращивая в коридоре больницы лимоны. Свои ботанические способности он довел до такого совершенства, что получал из лимонного дерева обильный урожай, первыми плодами которого он угощал сослуживцев в больнице.
Встречи и знакомства с земляками[править]
В те времена по городу Магадан, особенно по ночам было опасно передвигаться. Оперировали банды рецидивистов, освобожденные из лагерей. Мы благополучно добрались до города. Владимир Кутузов пошел к себе, а я с Верой Александровной Тоболовой пошли к ним. Нас встретил ее муж Асланбек Мамсудов подполковник госбезопасности, переведенный из материка на работу в МВД Колымы, в Магадан. Хочу заметить, что в чекистских органах на Колыме можно было встретиться с офицерами самых разных национальностей, очевидно это соответствовало интернациональному составу узников ГУЛАГа. Каких только, представителей самых экзотических народностей не встретишь в колымских лагерях.
После предварительного знакомства с Асланбеком, мы перешли к душевной беседе, разумеется я обходил острые углы каверзных для меня чекистских вопросов, хотя стол его был накрыт коньяком, всевозможными деликатесами, вплоть до красных помидоров, свежих огурцов и другими трудно допустимыми, для тогдашних колымских условий. До поздней ночи, мы разговаривали о том, о сем, в частности о жизни и адатах нашего Кавказа. Из его разговора я узнал, что в Магадане на высших офицерских должностях работают старые чекисты осетины Дзитиев и Туаев.
На утро, целый день я и мой старый комсомольский друг по Баку Велиев Джабраил (бывший секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана), такой же узник ГУЛАГа как я, прибывший из Сусумана в Магадан в командировку, торчали в больнице и вокруг нее, в ожидании подготовки жены к операции. Вечером я вновь очутился в доме Асланбека Мамсудова, которому я дал заверение непременно побыть у него. К ним опять пришла главврач поликлиники, наша землячка из Баку с бутылкой шампанского. Ждали и не дождались ее мужа Мусатова тоже чекиста из Ашхабада, где он работал с наркомом внутренних дел Туркмении Борщевым Тимофеем. Последний, был энкаведистом из Баку, где натворил много бед, и грязных дел.
Затем по рекомендации Мирджафара Багирова, был направлен Берией в Туркмению в порядке "укрепления кадров" НКВД в Туркмении. Борщев продолжал свои гнусные дела и там, после крупного скандала был снят с работы в органах и вернувшись вновь в Баку был назначен первым заместителем Бакинского горсовета. Когда он из Баку ехал в Туркмению, он забрал с собой и свои "хвосты" в том числе и Мусатова, впоследствии также разоблаченного как палача-боксера по избиению заключенных в подвалах НКВД Азербайджана в годы культа личности.
В 1956 году, когда на специальной военной коллегии Верховного суда рассматривали на открытом судебном процессе в Баку дело Мирджафара Багирова и его приспешников, Борщев, и другие генералы НКВД МТБ были с ним вместе приговорены к расстрелу. Мусатов во всем его облике палача, фигурировал на этом судебном процессе. Дальнейшая его судьба и его жены мне неизвестна. Безусловно, и он понес заслуженную кару. В Магадане так и не удалось мне его встретить. Возможно он уклонялся от встречи со мной и это меня, в какой-то мере также тогда, устраивало.
Сидя в сталинских лагерях, мы часто думали покарает ли судьба тех энкаведишников, которые стряпали "грязные дела" на миллионы невинных людей. Несомненно, немалое число их было властью введено в заблуждение, так как в стране культивировали классовую ненависть, внедряли в сознание людей, что вокруг имеются агенты международного империализма, которые готовятся свергнуть Советскую власть. Энкаведишники выполняли, предписанные сверху партией, указания ловить и карать "врагов народа", которые засели в каждом предприятии и учреждении, в нефтепромыслах, транспорте, колхозах, в воинских частях, по соседству с твоей квартирой.
Как стало мне известно, после реабилитации и возвращения в Баку, из 30 семей, проживающих в 2-х этажной кооперативной Баксоветовской надстройке по улице Шаумяна, 29, где я ранее проживал, 14 семей были репрессированы. Многих репрессированных семей заставляли покидать жилье и на их оставленные квартиры в доме вселяли работников, находившегося поблизости НКВД. После ареста отобрали и мою квартиру в Баку, конфисковали также отцовский дом в Ленкоране.
В такой обстановке массового террора любой "донос" мог загубить жизнь безвинного человека. Поскольку правопорядка в стране не было, правосудие не действовало, энкаведешники искусственно находили компрометирующие "факты", фальсифицировали следственный материал, приобщали к "делу", сфабрикованную ими же самими, несуществующие в действительности показания арестованных, зачастую прибегали к пыткам, физическим истязаниям арестантов, в самых ухищренных формах. В подвалах НКВД Азербайджана тех лет, эти изуверские методы допроса арестованных широко практиковались.
В камерах НКВД, лишенными воздуха, пронизанными насквозь сыростью, содержалось несколько раз больше людей, чем позволяла их площадь. Это создавало невыносимые условия для арестованных, а некоторые просиживали здесь и по несколько лет. Эти подземные застенки заслуживают того, чтобы сделать их музеем для обозрения будущих поколений, как страшные места сталинско-багировской инквизиции.
Я приведу лишь один факт из многочисленных, когда продержав меня непрерывно несколько суток в электрически освещенной камере, выволокли на очередной допрос к следователю. Здесь прямо в кабинете следователя на меня неожиданно набросился здоровый детина в форме пограничника, начал бить и топтать кованным сапогом. Свои удары энкаведещник сопровождал словами "нарком велел из тебя сделать яичницу". Кровоточащая нога несколько дней не давала мне покоя от ужасных болей. Шрам от раны на левой ноге от полученных ударов сапогом, я сохранил многие годы после возвращения из колымских лагерей и сейчас этот шрам на ноге виден.
Среди энкаведешников находились и такие, которые сами усердствовали в своих преступных деяниях. Одного из них я хорошо знал до ареста и даже мы семейно дружили. Однако его истинное лицо я так и не познал, пока не услышал рассказы о нем от своих сокамерников в подвалах НКВД, где я просидел более 1,5 лет. Это был старший оперуполномоченный майор НКВД Сафар Мамедов. Его прозвище было "кор Сафар", так как один его глаз был поврежден. Несмотря на то, что мы были с ним знакомы, однажды, когда меня вели по коридору НКВД на допрос, он в лобовую, встретив меня, резко отвернулся, делая вид, что абсолютно меня не знает.
Рассказывали, что в один период он допрашивал и глумился в Аз.НКВД над нашим известным писателем Гусейном Джавидом. Судьба покарала его. В период Хрущевской "оттепели" он был выдворен из НКВД и долгое время подвизался в должности зам. директора по хозяйственной работе Института народного хозяйства в Баку. Умер после тяжелой болезни, от рака. Рассказывали, что когда его хоронили, даже близкие люди отвернулись от участия в похоронах. Вернусь к своему повествованию о пребывании в Магадане.
Операция жены, сложная, прошла удачно. Спасибо доктору Тоболевой Вере Александровне за ее "золотые" руки и талант. Кстати она своей успешной операцией спасла в Магадане не один десяток жизней. Опухоль под мышкой жены оказалось доброкачественной и этот благополучный исход, я с моим другом Джабраилом Велиевым (мы звали его ласково Джим) два дня отмечали по буфетам Магадана, а вечерами собирались у Мамсудовых.
Вспоминая эти дни я хочу подчеркнуть те чистые и искренние, бескорыстные отношения, которые часто складывались между земляками, вдалеке от родных мест. Как все это, поддерживало таких как, я. После операции, по рекомендации врачей, надо было жене раздобыть сладкое вино "кагор", что оказалось проблемой. В этом деле мне помог мой "Джим", работавший тогда директором Сусуманского Универмага. Неделю через две выписали из больницы жену. С помощью Цареградского Валентина Александровича я получил вне очереди билет на самолет, и на следующий день, через пару часов из Магадана благополучно прилетели в Сеймчан.
1953 год. Болезнь.[править]
Новый 1953 год, мы встретили без доктора Мамедхалафа, человека сурового на вид, но исключительно гуманной души. Его руками хирурга, на Колыме были спасены жизни ни одного десятка, людей, среди них немало лагерников. Он заболел неизлечимой болезнью, рака пищевода, вылетел в Москву. Вслед за ним мы отправили с тоской в душе и его семью. Оттуда он к нам больше не вернулся, возвратился навечно в родную Шемаху.
Прошел апрель 1953 года. В конце апреля передали правительственное сообщение, что реабилитировали московских врачей, незаконно арестованных. Указывалось, что их "дело" было ложно сфабриковано и ответственность возлагалась на Рюмина и Абакумова. Безусловно это свидетельствовало кое о чем, и люди пострадавшие невинно в 1937-38 годах стали глубоко призадумываться над этим сообщением, смотреть на это обнадеживающе, с верой на торжество правды. Эта вера укреплялась еще тем, что появилась передовая статья "Правды", где говорилось об искривлениях в органах МВД и МТБ. Стало известно об Указе Президиума Верховного совета СССР об амнистии, где впервые амнистия распространялась на политзаключенных, осужденных сроком на 5 лет. Это впервые показалось симптоматичным, за более полутора десятка лет.
Первого мая 1953 года, после митинга и демонстрации в поселке, мы приглашены в гости к начальнику отдела кадров Управления, он же секретарь партийной организации, Авдееву Михаилу. Собирались обедать вместе с сослуживцами и семьями. Во дворе еще лежал талый снег, морозы сравнительно слабые. Находился я дома, лежал на деревянном топчане, ожидая выхода жены, как вдруг мне стало плохо. Боли, сковывающие грудь и нехватка воздуха. В глазах потемнело, голова страшно болела и как будто язык отнялся. Стало страшно, подобного я в жизни, в лагере не испытал. Жена, заметив это, стала бодрить и успокаивать. Все это безуспешно, я терял самообладание. Неужели инфаркт сердца, до этого я даже понятия о пульсе не имел, не измерял никогда кровяное давление.
В это время зашла, жена моего друга. Катя. Увидав мое состояние, побежала в больницу, которая находилась от нас недалеко, метров 150-200. Прибежали медики с сумкой неотложной помощи и кислородной подушкой. Пошли в ход и кислородная подушка, нитроглицерин и уколы с камфорой и еще что-то. Прибежали соседи и товарищи.
Дни и ночи 1-го и 2-го мая я провел дома при дежурстве врача и знакомого мне фельдшера Феди - парня из Украины, отбывавшего срок, как бывший военнопленный. 3-го мая меня увезли в больницу Омсукчана. Главврачом больницы работала жена замполит отдела нашего Управления. Больница - небольшая деревянная постройка из жердей. В начале было 10 коек, затем в 1947/48 годах, когда я работал, после освобождения из лагеря, в строительно-эксплуатационной конторе, расширилась до 30 коек. Больница имела небольшой пищеблок и одну комнату с ванной.
Итак, я уже несколько дней в больнице, но дела на поправку не идут, ибо необходимого физио-больниологического лечения здесь нет. Диагноз: функциональное нарушение нервной системы с резким дистрофическим выражением. Руководство нашего управления Чумак и начальник Горно-Промышленного Управления Жиленько Иван Макарович ходатайствуют, по моей просьбе, направить меня для лечения на материк. Этого требуют и врачи. Как быть у меня в паспорте клеймо - режимное ограничение в передвижении. Райотдел МТБ возражает. Дело осложняется. Вмешивается в мою судьбу и новый начальник Политотдела Управления (инженер полковник - фамилию забыл), жена которого работает главврачом больницы, хочет посодействовать.
Вся надежда на изменившуюся в стране ситуацию в нашу пользу политзеков. Мне по "секрету" сообщают, что управление написало ходатайство за меня и в Магадан в Дальстрой. Я очень нервничаю и переживаю, видимо это влияет и на ход моего безуспешного лечения. В один из майских дней жена придя утром в больницу сообщает, что была у начальника политотдела управления и ей сообщили, что райотдел МТБ разрешил выезд и при этом даже меняют паспорт, снимая этот несчастный пункт о паспортном режиме.
Теперь возникает другой, не менее серьезный вопрос, как быть с сопровождающим медперсоналом. Речь идет об украинском парне Феде, он всегда рядом со мной в больнице и просит взять его с собой на материк. Мы тоже за него хлопочем. Райотдел МТБ категорически отклоняет его выезд, ведь он "изменник Родины". Что делать? Через несколько дней Федя идет к начальнику Райотдела Иван Ивановичу и возвращается радостно - разрешили выезд.
Наконец, нам всем троим, мне, жене и Феде выписаны пропуска на выезд. В те годы для выезда на материк или из материка требовали пропуск как в погранзону, речь идет не только на крайний берег Чукотки, где пролегает действительно граница, но и в Магадан или в другой уголок Колымы. По существующим правилам Дальстроя, мне за 2,5 года работы положено 7 месяцев отпуска из них 2 месяца на дорогу, дополнительно мне выписаны больничные листы из-за болезни.
Не успели приземлиться в Магаданском аэропорту , как к самолету подъехала карета скорой помощи, оказывается из борта самолета уже сообщили о больном Багирове. Поднявшись на борт самолета врач разузнав через фельдшера мое состояние, сразу направил меня прямо в поликлинику №2 Дальстроя. Встретились вновь с главврачом поликлиники - нашей землячкой из Баку. Впервые я здесь видел аппарат электрокардиограммы, которым проверили состояние сердца. Остановились мы у старого знакомого по Омсукчану Кутузова который жил на улице Горького, рядом с поликлиникой. Через неделю врачи разрешили мне вылет из Магадана, разумеется все эти дни я находился под их опекой. На карете скорой помощи мы добрались до аэропорта Магадан и меня вновь уложили на спину, в носовом отсеке самолета ИЛ-2, возле багажей. В пути несмотря на старания фельдшера Феди, мне стало плохо.
Начальник Дальстроя, инженер полковник Чугуев, летевший тем же самолетом в Москву, видя мое тяжелое состояние велел лететь самолету прямо в Хабаровск, минуя посадку в Николаевск на Амуре. Тем самым, сэкономлено было время 2 часа пути полета. В Хабаровске мы разместились в гостинице Дальстроя на Волочаевской улице, где опять я попал на попечение врачей. На следующий день в мягком вагоне Хабаровск-Москва мы уже были в пути. Дорога Хабаровск-Москва оказалась для меня тяжелой. По всему пути кроме усилий фельдшера Феди, я прибегал периодически к помощи врачей. По всему пути, телеграфно вызывали врачей и на больших станциях, они заходили ко мне в вагон, оказывали медпомощь.
Напряженная обстановка царила в вагонах поезда, особенно на железнодорожных станциях. По амнистии 1953 года из лагерей Дальнего Востока было выпущено немало уголовников, среди них немало за бандитизм. В пути они бесчинствовали, совершали грабежи, доходило до убийств. Дело зачастую доходило до того, что при приближении поездов, ларьки и пристанционные магазины наглухо закрывались. Иногда нарушались железнодорожные операции по высадке и приему пассажиров и почты. После Иркутска положение несколько улучшилось, по вагонам начали патрулировать наряды милиции, очевидно бесчинство этих татуированных бандитов дошло до властей.
Узнав о моем тяжелом состоянии, к нам в купе вошел директор вагон ресторана, добрый грузин, который всю дорогу, более 10 суток, обеспечивал нас необходимым питанием, вплоть до фруктов и свежих овощей. После переезда Ворошиловск-Уссурийск к нам заходит директор вагона-ресторана с одним худощавым парнем в военной форме с погонами майора медицинской службы. Знакомимся.
Представляется, называет себя Тофиком Султановым, родом из Нахичевани. Азербайджанец военврач, в этих краях проходит военную службу и выезжал на отдых в Сочи. Он интересуется историей моей болезни и в течении 10 суток всей пути несколько раз посещал меня, оказывая помощь советом врача и морально поддерживая. Недавно я узнал, что он после демобилизации с военной службы долго был Министром здравоохранения Нахичеванского АССР, далее зам. начальником 4-го Управления Минздрава Азербайджана.
Москва. Встреча с сыновьями. Лечение в больнице МВД.[править]
Поздней ночью конца весны 1953 года мы прибыли в Москву. На Ярославском вокзале встретили меня мои сыновья, оба обучающиеся в Москве. Старший Мирза аспирант Энергетического института Академии наук СССР, другой Фикрет студент историко-архивного института. К вагону прибыл медперсонал с носилкой и меня вновь на карете скорой помощи везут в больницу. Уложили меня в центральную клиническую больницу МВД СССР, на Петровке, 26, поскольку Дальстрой находился в этой системе. Установили диагноз инфаркт миокарда и на носилках подняли в палату терапевтического отделения.
Главврач поставил условия, как подлечусь, мне не задерживаться в Москве. В палате на 5 этаже больницы нас было трое. Соседями по палате оказались Алексей Васильевич, генерал лейтенант в отставке, долго проработавший начальником погранокруга. Он недавно перенес инфаркт, но был уже ходячим больным и Алексей Иванович полковник госбезопасности, работающий начальником МВД Удмуртии (фамилию обоих позабыл). Алексей Васильевич жил в Москве и вечерами к нему приходила часто проведывать жена.
По иронии судьбы я попал в круг начальников, которые у меня отняли свободу и подвергали более 15 лет издевательствам и унижениям в тюрьмах и в лагерях. Я был удручен и не рад, что попал в больницу высокопоставленных людей МВД, хотя здесь условия лечения прекрасные, питание особое, комфорт т.е. все блага, как в кремлевской больнице. Мне еще не поменяли, при выезде из Колымы, паспорт и у меня графа 38 режима. Ведь этот злополучный гриф 38 выдавали при освобождении "опасным заключенным", чтобы они как "прокаженные" не смели подходить к городам и даже к железным дорогам. Я попал в Москву, в самый центр и лечился недалеко от Лубянки.
Я нервничал что меня "разоблачат и отсюда же вывезут в тюремную больницу, хотя чувствовал что "оттепель" приближается. К моему счастью, видимо абсолютно не сомневаясь, что в такие места могут попасть только большие и надежные работники органов НКВД, паспорта не потребовали, ограничились удостоверением Дальстроя МВД СССР. У меня хорошее отпускное удостоверение, по всей тогдашней форме, с фотокарточкой и гербовой печатью МВД СССР. Места работы "№"-ское Управление, должность начальник отдела Управления.
Что к чему, даже лагерный пункт не указывался, ибо все названия службы в те годы и цифровые данные производства Колымы строго засекречивались. Мне просто здорово повезло. Товарищи по палате принимая меня по занимаемой должности, называли просто "полковник Багиров", хотя я всячески старался избегать лишних разговоров и давал знать, что я сугубо инженерно-технический работник Дальстроя. Я об этом, на следующий день, строго предупредил и жену, сына, посетивших меня в больнице. Просил и в Баку ничего не сообщать, даже матери о моем прибытии и лечении в Москве.
Однажды в 1951 году, как было сказано раньше, я уже обжегся на поверхностной "конспирации" и вынужден был срочно прервать лечение на Кавказе и внезапно уехать оттуда. Теперь я должен был прошлую ошибку учесть. Выделили мне двух лечащих врачей, терапевта и невропатолога. Началось интенсивное лечение. На консультации, меня показывали известным Московским светилам-медикам. Некоторых я запомнил, профессора Рапопорт, Савицкий, Евдокимов, Черногоров и другие. Лечение было отличное и интенсивное.
Жене и сыну дали постоянный пропуск входа в больницу. Наверное, судьба, лечением в такой прекрасной больнице, мне чуточку компенсировало подорванное здоровье в прошедших тюрьмах и в лагерях. В палате имелся городской телефон все удобства для отдыха. Товарищи по палате оказались откровенными, рассказывали много обо всем интересном.
Конечно, в течение полутора месяца, которые я провел в центральной больнице МВД мне приходилось тяжело, нервное переживание, что вот-вот меня "разоблачат" бывшего политзэка, потребуют паспорт с отметкой. Это не давало мне покоя. Я не спал, плохо ел, находился в постоянном возбуждении, хотя условия больницы были прекрасные. Жену устроил рядом с больницей, в семье знакомых колымчан.
Но будучи "контриком" с отметкой в паспорте, жить в Москве в центральной клинической больнице МВД СССР, с высокопоставленными чекистами, было не только рискованно, но и страшным ожиданием надвигающей "развязки". Поэтому высококвалифицированное лечение мне не помогало. Я прошу сына и жену забрать меня отсюда в какую нибудь районную больницу, а им жалко расставаться с такой больницей кремлевского типа.
В июле 1953 года произошли неожиданно большие события. Утром рано, когда пришла дежурная няня нашей палаты, и по своей простоте "ляпнула", что Берию арестовали, как врага народа. Мы все трое больных обалдели, не уронив ни слова. У нас у каждого в палате были радио наушники. В семь утра, об этой новости передали по радио. Все мы услышали, но делаем вид, что не слышали и никаких комментарий. У Алексей Васильевича, генерала-лейтенанта госбезопасности, старого чекиста надо было многому учиться, особенно выдержке.
Он спокойно позавтракал, звонит затем домой жене по телефону, просит чтобы сын ему позвонил. Оказывается, сын его офицер служит в Кантемировской танковой дивизии. Жена говорит, что сына три дня нет, и по ее звонку отвечают из части что он в походе. Затем генерал продолжает спокойно, как и прежде свои веселые рассказы и анекдоты для нас, как будто ничего не произошло. Звонит своим друзьям чекистам, просит посетить его, захватить то фрукты, то конфеты в которых он по существу и не нуждается. Очевидно, он хочет от них узнать подробного обстоятельства ареста Берия. Этот день большой сенсации, в больнице проходит как обычно, обход врачей, визиты начальника отделения и главврача. Они ведут себя как и раньше, будто бы ничего не произошло. Молчим безусловно и мы.
Вечером зашли ко мне сын с женой сообщили, что все говорят в Москве, что арестован Берия, один из главарей незаконных репрессий против народа. Оказывается они были на Садово-Кудринской улице, где находится квартира-особняк Берия, огражденный высокими заборами и прежде усиленно охраняемый, даже по углам улицы была сигнализация, запрещали проезд автомашин и дежурили постоянно агенты секретной службы. Теперь охраны дома нет, дом в темноте и машины беспрепятственно ездят. Я велел сыну ни с кем в Москве пока не вести разговоры на эту тему.
На следующий день, когда газеты сообщили эту новость, я начал с товарищами по палате с чекистами, открыто вести разговор на эту тему. На их вопрос, не является ли Мир-Джафар Багиров моим родственником, я ответил отрицательно и рассказал из какого района Азербайджана мы выходцы. В душе я невольно подумал, что этот палач азербайджанского народа, друг Берия непосредственно виновен в тысячах загубленных жизней представителей моего народа и в том числе в моей жизненной трагедии. Я об этом стал говорить, во первых рассеять их сомнение, во вторых не выглядеть аполитичным, в такой обстановке и совсем своим молчанием дать им заподозрить меня, "на воре шапка горит". Конечно, мое пребывание в центральной больнице МВД-МГБ не позволяли мне раскрыться, что я сидел при них. Был в заключении, освободился и вообще о своих жизненных коллизиях.
Мы поместили отрывки из воспоминаний Эйюба Багирова, опубликованных ЗДЕСЬ
К сожалению повествование не окончено или не опубликовано до конца.