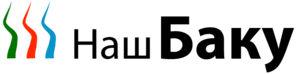Захарова Конкордия Ивановна - (продолжение) Версия от 01:09, 13 сентября 2011; I am (обсуждение | вклад)
Захарова Конкордия Ивановна - социал-демократ, репрессирована[править]
К моменту моего приезда в Баку[править]
в январе 1908 года организации, как партийные, так и профессиональные, как меньшевистская, так и большевистская, были заняты кампанией по совещанию с нефтепромышленниками. Инициатором совещания с целью выработки «соглашения» (коллективного договора) между рабочими и предпринимателями был помощник кавказского наместника Джунковский.
Дело в том, что правительство было заинтересовано в бесперебойной работе нефтяной промышленности, не оправившейся еще, несмотря на 20-миллиониую казенную субсидию, от пожаров 1905 года. Джунковский неоднократно требовал от нефтепромышленников, выступая на их съездах, чтобы они заключили длительное соглашение со своими рабочими и этим бы положили конец не прекращающимся конфликтам и забастовкам.
Поскольку масса нефтепромышленников туго поддавалась на его настояния и уговоры, он через их голову обратился к самим рабочим. В октябре 1907 года профессиональные союзы получили приглашение послать своих представителей к приехавшему в Баку Джунковскому. В продолжительной беседе он старался доказать необходимость заключения коллективного договора и напирал на то, что обязанность союзов разъяснить его пользу и выгоду массе рабочих, которая с недоверием относится к этой идее.
Представители союзов заявили, что не могут решать вопроса за рабочих, и предложили ему обеспечить возможность свободного обсуждения его на рабочих собраниях. Джунковский пошел на это требоваиие, и через несколько дней союзы получили от градоначальника бумагу, разрешающую им устраивать на промыслах, на заводах и в казармах собрания рабочих для обсуждения вопроса о совещании. Партии и союзы столковались между собою о порядке ведения этих собраний, где должны были выступать сторонники различных точек зрения.
Дело в том, что единодушия по этому вопросу не было. Среди большевиков были сторонники как полного бойкота (Сталин), так и условного участия в нем при наличии «гарантий», т.е. допущения на совещание представителей союзов, неприкосновенности уполномоченных и т. п. (Джепаридзе, Стопани, Самарцев, Германов-Фрумкин) . Меньшевики высказывались за участие в совещании без выставления каких-либо предварительных условий. Социалисты-революционеры и армянские националисты (дашнаки) были за бойкот и за немедленное объявление всеобщей стачки.
На несколько месяцев затянулись собрания, на которых происходила оживленная дискуссия «по платформам». Результат голосования был таков: за участие высказалось 24 тысячи рабочих (причем большинство их за участие «с гарантиями»), за бойкот 12 тысяч; около 15 тыс. рабочих остались неопрошенными. Было избрано всего 390 уполномоченных.
Результаты голосования показали, что среди рабочих нет единодушия. Этим воспользовались нефтепромышленники, чтобы решительно выступить против совещания — с кем договариваться, если за совещание, да и то условно, высказалось несколько больше половины всех рабочих?
Несколько собраний уполномоченных прошли в ожесточенной борьбе сторонников различных течений, и ни к чему положительному не привели; бойкотисты в конце-концов ушли. Уполномоченные избрали организационную комиссию, официальное заседание которой под председательством Джунковского состоялось в начале мая.
Джунковскому было предъявлено основное требование проведенного большевиками наказа — допущение с совещательным голосом представителей союзов. Убедившись в решительном нежелании промышленников договариваться с рабочими как с единым целым, Джунковский воспользовался этим ультиматумом, чтобы объявить заседание закрытым «в виду отказа со стороны представителей рабочих без участия представителей профессиональных союзов приступить к работам организационной комиссии».
Так оборвалась многообещавшая кампания, которая внесла большое оживление в жизнь союзов. Большевики пытались использовать создавшуюся организацию — совет уполномоченных — для подготовки всеобщей забастовки. Они предлагали образовать районные комиссии уполномоченных, которые занялись бы выработкой требований. Oднако, из этого ничего не вышло.
Вскоре вслед за этим Союз механических рабочих ухватился за вопрос о рабочих поселках, рассчитывая на этой почве оживить движение. Поводом к этому явился доклад комиссии Съезда нефтепромышленников, в котором доказывалось, что свободные участки, могущие быть отведенными под постройку рабочих жилищ, находятся слишком далеко от промыслов, что поэтому придется произвести миллионные затраты на проведение к ним трамвайных линий, что средств на это у нефтепромышленников нет и что без правительственной субсидии нельзя будет обойтись.
Доклад этот был поставлен на обсуждение очередного съезда, и Союз приготовился дать решительный бой. Был собран обширный цифровой; материал, который убедительно показывал, что из прибылей нефтяников с избытком и легко, без всяких субсидий, возможно покрыть стоимость и предполагаемых поселков, и трамваев к ним.
Выступить от Союза на съезде должен был Ю.Ларин. Предполагалось, что это выступление будет подкреплено многочисленными резолюциями рабочих собраний, но влияние Союза было слишком невелико, и ему не удалось развернуть широкую кампанию. Так или иначе, но выступление на съезде состоялось.
После доклада комиссии неожиданно для нефтепромышленников поднялся с места для гостей Ларин и потребовал слова. Его нескладная фигура, необыкновенно высокий, тонкий голос вызвали усмешки на лицах нефтепромышленников, а его заявление, что он говорит здесь в качестве представителя рабочих — полное недоверие, так как в нем не трудно было угадать интеллигента.
Но уже после нескольких минут первоначально ироническое и недоверчивое отношение сменилось глубоким вниманием. В резких выражениях, с замечательной силой Ларин в своей речи вскрыл всю несостоятельность доводов комиссии и заправил Совета съезда, обвиняя нефтепромышленников в стремлении обмануть рабочих, уклонившись от взятых на себя обязательств, и грозил отпором со стороны последних.
Члены съезда заволновались, а полицейский чин, присутствовавший на съезде, поторопился сделать распоряжение о задержании оратора. Предупрежденный об этом одним из нефтепромышленников, Ларин не замедлил исчезнуть, что и сделал с помощью товарищей. Это было его последнее выступление в Баку: полиция принялась усиленно разыскивать неизвестного оратора, и ему пришлось уехать из города. Как удачно ни было выступление Ларина, оно все же не повлияло, конечно, на решение съезда — поселки были ими похоронены, а рабочие на это ничем не отозвались.
Несмотря на многолетнюю работу партийных организаций[править]
в Баку и былое их влияние, сознательных элементов в рабочей массе было очень мало, благодаря чему здесь так легко находили последователей всякие революционные авантюристы, люди с анархическими замашками.
Уклоны от социал-демократической линии были часты и очень значительны даже среди верхушки организации. Если в Петербурге молодежь подчас увлекалась непосредственным чувством и склонялась ко всяческим расправам и экспроприациям, то здесь эта стихийность сказывалась вдесятеро сильнее. Убедившись в полном развале партийной организации (по крайней мере у меньшевиков), ознакомившись с местным движением и уиидев его ахиллесову пяту — чрезвычайно низкий культурный уровень масс, я пришла к заключению, что в Баку больше, чем где бы то ни было, необходимо более широкое вовлечение масс в активную работу, воспитание в ней классового сознания, приучение ее к планомерной, систематической деятельности и борьбе.
Нелегальной организации для этого уже недостаточно, тем более, что она непрерывно шла на убыль. Чаще всего мне приходилось на эту тему беседовать с одним из наиболее влиятельных тогда и активных членов меньшевистского комитета, товарищем Тиграном (фамилия его осталась мне неизвестной). Фанатично преданный партии, весь отдавшийся работе, он был узким подпольщиком и ничего, кроме подполья, не признавал, находя, что открытые легальные организации могут лишь служить резервуаром, из которого полиция будет черпать тюремных сидельцев.
Сколько вечеров мне пришлось проспорить с ним, доказывая, что подполье уже не может теперь удовлетворять запросы, какие 1905 год пробудил в массах, что без пробуждения самодеятельности в более широких слоях рабочих мы становимся все слабее в периоды реакции, в роде той, какую ныне переживаем. Тигран нe мог, конечно, отрицать несомненные факты, а они свидетельетвоаали о постепенном замирании нелегальной партийной организации. Он сам впадал иной раз к уныние, видя непрекращающееся дезертирство членов партии, наблюдая, как все слабее и слабее бьется пульс организации.
Он не мог не видеть, что организация фактически жила теми открытыми выступлениями, которые захватывали, интересовали массы: кампанией по вопросу о совещании с нефтепромышленниками, о поселках, выступлением на женском съезде, при чем ее роль была далеко не определяющей, так как эти кампании проводились более или менее открыто и при участии товарищей, стоящих в стороне от партийной организации, а таких товарищей в то время в Баку было немало, как впрочем и в других городах России.
Тигран соглашался с этим, но упорно не хотел сделать еще шаг и признать полезность и необходимость создания открытых рабочих организаций, которые, сохраняя ту или иную связь с партией, оставались бы в то же время легальными и могли охватывать новые, совершенно не затронутые партией элементы. Тигран принадлежал к тому типу южан — он был армянин, — которые при страстной горячности наружно остаются холодными Их трудно убедить в чем-нибудь и еще труднее переубедить и только жизнь заставляет их склониться перед собою, да и то не всегда.
Между тем о 1908 голу в Баку налицо были еще широкие возможности для различных начинаний; тут затевались организации безработных, устраивались рабочие школы и столовые, кооперативы производительные и потребительские, — для всего этого находились достаточные кадры опытных работников. Особенной инициативностью отличался И.И.Соколовский (впоследствии писал в рабочей печати под псевдонимом Ильи Колосова), по натуре вечно ищущий, но ни на чем долго не останавливающийся, смело берущийся за организацию нового дела, но, к сожалению, лишенный той внутренней дисциплинированности, какая необходима для доведения начатого до конца, и в довершение всего — абсолютно беззаботный по части принципов.
Это до известной степени искупалось отличавшей его глубокой верой к массы, органическим, так сказать, демократизмом, которого, увы, частенько не хватает даже и у передовых рабочих, а он был интеллигент, и неутомимой энергией. Первая встреча с ним произвела на меня странное впечатление. Передо мною был с виду совершеннейший босяк, оборванный, с запущенной растительностью на лице, с размашистыми манерами.
Мне и в голову не могло придти, что это выходец из достаточной еврейской семьи, получивший хорошее воспитание и окончивший среднее учебное заведение. Только кающийся интеллигент, отряхая прах своей среды, может так огульно и без разбора отбросить все приобретения внешней культуры. С рабочим этого никогда не случится, ему не от чего отворачиваться; приобщаясь к культуре, дающей ему возможность осознать себя как представителя определенного класса, он, наоборот, и внешне становится культурнее.
В партийных организациях Соколовский не уживался как по своему характеру, так и по своим взглядам, но это не мешало ему всегда работать в самой гуще рабочей массы. Для того, чтобы расшевелить ее, пробудить в ней интерес, он иной раз не прочь был пускать в ход такие приемы, которые возмущали товарищей, имевших с ним дело.
Чванство, не товарищеские отношения, неискренность были для него непереносимым и, когда он замечал что-нибудь подобное, от него нельзя было ожидать «тактичности». Он шел на вce, лишь бы разоблачить, выставить к позорному столбу погрешившего товарища. Из-за этого у него частенько выходили столкновения, третейские суды, и многие избегали иметь с ним дело. Ему не один раз на своем веку пришлось посидеть в российских тюрьмах и побывать в ссылке, причем он неизменно являлся олицетворением непримиримости и протеста, платить за это своими боками — его не раз избивали — и здоровьем, просиживая целые недели в карцере. В ту пору он жил жизнью совершенно обездоленного рабочего, лишенного самого необходимого. Это облегчало ему сближение с рабочей средой.
В Баку, когда я его впервые встретила, он был занят организацией безработных и одновременно с этим устраивал вечернюю школу для рабочих. Я охотно уделяла некоторые вечера этой школе, где собирались далеко не одна рабочая молодежь, но и пожилые рабочие. Не помню уже, почему я скоро оставила эти занятия. Соколовский не долго увлекался школой, он забросил ее, занявшись устройством столовой, а потом «обществом безработных». Соколовский каким-то образом узнал, что группа благотворительниц учредила общество для помощи безработным. Раздобыв Устав и ознакомившись с ним, он решил, что можно воспользоваться его рамками и создать широкую организацию безработных.
Закипела работа, и недели через две Соколовскому уже удалось созвать многолюдное собрание безработных дли обсуждения целесообразности вхождения в общество. Многие из пришедших, в том числе и представители союза механических -рабочих, утверждали, что из этой затеи ничего не может выйти, что благотворительное по самому построению своему общество немыслимо превратить в самодеятельную рабочую организацию. После довольно бурных прений точка зрения Соколовского восторжествовала.
Завладеть существующим почти только на бумаге обществом не составляло большого труда, но разочарование наступило очень скоро, когда присутствие по делам об обществах отказало в регистрации изменений в Уставе, хотя несколько приближающих общество к типу рабочих организаций. Это положило конец всей затее.
Годы 1908 и следующие прошли в Баку под знаком все усиливающейся безработицы. Стремясь несколько смягчить ее и найти заработок хотя небольшой части безработных, Союз нефтепромышленных рабочих стал организовывать артели для выполнения разных работ на промыслах, сдававшихся обыкновенно с подряда. Эти артели очень скоро стали источником всевозможных неприятностей для Союза. Его руководители и заведывавшие артелями работники не могли справиться как следует с этим довольно сложным и разросшимся делом — порою работало в артелях свыше 1.000 чел.; страдала отчетность, страдало качество и успешность работы, а это отзывалось на заработке.
В массе своей малосознательные члены артелей не всегда относились к работе с достаточной добросовестностью; устранение от работ вызывало нарекания в кумовстве, пристрастии и других прегрешениях; постоянно повторялись обвинения в обсчитывании, растрате артельных сумм на посторонние цели; не обходилось и без растрат, совершаемых второстепенными администраторами артелей.
Всякого рода артели и кооперативные начинания тогда в Баку, вообще, представляли собою ту соломинку, за которую хватались рабочие, зажатые в тиски безработицы. Одним из таких начинаний был кооператив «Рабочий Союз», организованный довольно многочисленной группой металлистов, главным образом, из Петербурга для устройства собственного механического завода.
Товарищи тщетно отговаривали их от этой затеи, обреченной на неудачу при отсутствии достаточного капитала, при наличии капиталистической конкуренции, при сложности и трудности управления таким предприятием. Но голод — плохой советчик, как-нибудь существовать надо и кооператоры поневоле сложили свои последние гроши (пай кажется был определен в 100 руб.). Вдохновителем всего предприятия был инженер Романов. Ссылаясь на свое знакомство с местными условиями и на свои связи с нефтепромышленниками, он уверял, что недостатка и заказах не будет. Кроме того, он обещал финансовую поддержку кооперативу от гр. С.В Паниной, известной общественной деятельницы.
Романов, человек весьма предприимчивый, лишенный самой элементарной порядочности, в конце 90-х годов 19 века проживал за границей, где среди русских эмигрантов Парижа и Брюсселя приобрел своими некрасивыми выходками весьма сомнительную репутацию. Зная это, мы тем настойчивее старались расстроить его новую авантюру, но, к сожалению, ему удалось обойти питерцев и опьнить их заманчивыми картинами. А среда них были вполне сознательные рабочие, прошедшие хорошую и продолжительную школу в движении, как, например, товарищ Тетеркин с Обуховского завода, бывший членом Совета Рабочих Депутатов и в 1905 г. деятельный член партийной организации (года через два после этого бакинского начичания умерший).
Кооператив взял в аренду небольшой долго бездействовавший завод Айваз, потратил не мало времени и средств на приведение его в порядок. Избранный распорядителем, Романов проявил чрезвычайную энергию и для начала быстро раздобыл заказы, так что работа закипела. Но скоро дали о себе знать все слабые стороны производительных кооперативов, несвязанных с массовой потребительской кооперацией: недостаток оборотных средств для приобретения материалов и топлива, для выплаты заработной платы, неполная нагрузка предприятия.
Участникам кооператива приходилось довольствоваться грошовыми получками в счет нормальной заработной платы, а затем части их пришлось искать работы на стороне в виду отсутствия достаточного количества работы у себя на заводе. Романов диктаторски управлял всем делом, грубо обращался с пайщиками, не давал отчета, и дело через несколько месяцев закончилось крупным скандалом. После безрезультатного обращения за поддержкой к Паниной и Тищенко (бывший землеволец, потом нефтепромышленник), кооператив был ликвидирован, при чем участники потеряли свои паи и недополучили значительную часть причитающейся им заработной платы .
Я упомянула об этой попытке создания производительного кооператива только потому, что в те годы такие попытки делались очень часто и во многих других местах, как будто рабочим России нужно было на собственном опыте убедиться, что собственное производство в капиталистическом обществе рабочие могут наладить с успехом только в связи и на основе сильной и массово потребительской кооперации. Ведь таким же плачевным крахом закончилось в Петербурге гораздо более крупное начинание писателя Поссе, который пытался организовать булочное производство, устроив для этой цели кооператив «Трудовой Союз». Несмотря на очень значительную денежную поддержку со стороны (прогрессивный общественный деятель Ермолаев, отец видного меньшевика К.М.Ермолаева), «Трудовой Союз» после непродолжительного сущестования обанкротился и был ликвидирован.
Почти с первых же дней своего пребывания и Баку[править]
я задалась целью наладить здесь «рабочий клуб». Он должен был явиться дополнением к подпольной партийной организации. Условия, в которых протекала партийная работа в этом центре нефтяной промышленности, лишь усиливали мои стремления в этом направлении. Легальная организация, объединяющая под влиянием социал-демократии широкие слои рабочих, здесь, на мой взгляд, была уместна и необходима гораздо больше, чем где бы то ни было.
Некультурность рабочих, работа в одних и тех же предприятиях представителей разных национальностей, резко отличающихся друг от друга своими бытовымн и религиозными привычками, абсолютное отсутствие среди пролетариата женщин, которые здесь, в этом полуевропейском, полуаэиатском городе, стояли в стороне от промышленной жизни, если не считать ремесленниц, — все это говорило в пользу той формы организации, которая, являясь центром сближения, была бы доступна всякому пролетарию, в которой каждый из них мог бы найти для себя интерес и применение своих сил и способностей, воспитывая в ceбe классовое сознание.
Рабочий клуб, как мне представлялось, в Баку имел еще большее значение, чем в столице, где в 1906 году я устраивала первый рабочий клуб. Людей для обслуживания его здесь тоже было много. Лекторских cил — хоть отбавляй. Интеллигентский «Литературно-художественный кружок» показал, как мы богаты по этой части. С другой стороны, к осени 1909 года около нас сгруппировалось достаточно рабочих и работниц, партийных, обладавших большим или меньшим организационным опытам, которые могли составить основное ядро работников будущего клуба.
Назову хотя бы металлиста Борисенко и его жену С.А.Сахнову, типографского рабочего А.Хачиева, его жену Лушу, модистку Веру Лохвицкую, Платона Бахтадзе, служащего в управе... Они живо откликнулись на мое предложение принять участие в организации клуба. В этой работе деятельное участие приняла также перебравшаяся к тому времени в Баку А.Краснянская, мой старый близкий товарищ и друг.
Первые собрания группы инициаторов были встречены со стороны некоторых подпольщиков сомнениями и недоверием. Они сомневались и в успехе и опасались отлива работников из партийной организации, без того уже прозябавшей. Живее других к начинанию отнесся Хачиев, энергичный секретарь типографских рабочих. Он отличался неослабной настойчивостью, был главным работником в союзе печатников, к которому относился, как к своему детищу. Когда жизнь к Союзе стала замирать, и его члены стали неаккуратно посещать собрания, так что частенько они не могли состояться, товарищ Аршак старался воздействовать на каждого отдельного рабочего, побуждая его не дать организации погибнуть.
Подчас его так возмущало безучастие товарищей по Союзу, что он выходил из себя, начинал ругаться, прибегал к крайним мерам. Однажды, после двух подряд не состоявшихся собраний, он собственноручно повесил замок на дверь правления Союза и прекратил выдачу пособий безработным. Это оказало свое действие — заинтересованные безработные позаботились, чтобы на следующее собрание явилось достаточно членов.
Вера Лохвицкая была человеком иной складки. Это была развитая еврейская работница, совсем молодой примкнувшая к социал-демократии, с большими умственными запросами, с вечной жаждой знаний и стремлением делиться ими со своими товарищами. Среди рабочих-ремесленников трудно было не заметить эту очень развитую девушку. Уже покинув Баку, я долгое время старалась не терять ее из виду и к своему удовлетворению на свои запросы неизменно получала сообщения, что Вера, не взирая на преследования, продолжает неутомимо свое дело. Так продолжалось до 1917 года и ближайших за ним лет. О дальнейшей ее судьбе мне неизвестно.
Н. Борисенко, старый партийный рабочий, одаренный и развитой, перебрался в Баку, скрываясь от преследований, и жил здесь нелегально. Пришлось ему очень туго — плохо оплачиваемая работа сменялась длившейся много месяцев безработицей. Это не мешало ему принимать деятельное участие как в партийной организации, так и в работе Союза механиков, членом правления которого он состоял.
Его жена, Соня Сахнова, высокая, красивая хохлушка, медлительная, несколько застенчивая и с виду очень тихая, но сильная духом женщина, вошла в движение еще совсем юной девушкой, лет 16. Как все замкнутые люди, она не любила много говорить, но берясь за какое-нибудь дело, без лишних слов вела его. Она принадлежала к числу тех немногих работниц, которые, несмотря на все тяготы жизни, на детей, отнимавших у нее много сил, не отошла от партийной работы и до самой могилы осталась на посту (она умерла в 1920 году).
Когда был поднят вопрос об организации клуба, Соня сразу же схватилась за это начинание, видя в нем удачное средство вовлечь женщин в общественное дело, вырвать их из узкого семейного мирка, а для себя — поприще работы. До последнего дня существования клуба она отдавала ему все свое свободное время.
Посильнoe участие в организации и дальнейшей жизни клуба приняла и незадолго до того попавшая в Баку тов. Корсунская. Она только что бежала из Новинской тюрьмы в Москве, где отбывала каторгу за побег с поселения (была сослана за работу в кишиневской типографии «Искры»). Тюрьма с ее режимом, рассчитанным на медленное умерщвление заключенных, наложила глубокую печать на Наташу, как звали Корсунскую в Баку. Еще совсем молодая, но с усталостью в лице и в глазах, с тихой, медленной речью, как-будто утратившая способность смеяться, она невольно вызывала мысль о том, что пережила какую-то серьезную, гнетущую душевную драму.
За годы тюрьмы она сильно оторвалась от жизни, и теперь для нее было много нового и неожиданного. В подпольной работе ей было очень рискованно принимать участие, но когда на очередь дня была поставлена организация клуба, она отдала ему свои силы. Позже, когда в Баку начались аресты, она уехала в Закаспийскую область, но это не уберегло ее: скоро она была арестована и снова водворена в каторжную тюрьму, из которой ее освободила только революция. В 1918 году я встретила ее снова в Москве, но уже совершенно разбитую физически, с бесчисленными приобретенными в тюрьме недугами. Вот с этими-то и некоторыми другими товарищами было начато дело.
Если в Петербурге было трудно найти подходящее помещение, то здесь и подавно, и потому пришлось войти в соглашение с Союзом механических рабочих, дела которого в это время были очень плохи — в нем осталось всего каких-нибудь три - четыре сотни платящих членов. Для него большим облегчением было избавиться от-части расходов за квартиру. Он занимал подвальное помещение по Каменистой улице, состоящее из трех небольших комнат, одна из которых была темная. Помещавшаяся рядом с ним мастерская лепных архитектурных украшений как раз выехала, и Союз согласился перебраться в освободившуюся комнату, уступив нам свое помещение.
Если сравнить этот подвал на Каменистой улице с теперешними рабочими клубами, то, конечно, он показался бы жалким, до нельзя мрачным: окна — на уровне тротуара, высоко от пола, так что в них видны лишь ноги проходящих мимо. Первая, «большая», комната вмещала не более ста человек, да и то при условии большой давки, за нею находилась совсем крошечная комнатка, а с боку третья, правда, большая, но без окон, с дверью во двор. Вот и весь наш «дворец». И все же, недостающее в действительности восполнялось энтузиазмом, проявленным новыми хозяевами помещения. Из этого подвала они создали место, служившее своего рода магнитом, и в осенние вечера это жалкое подземелье гудело, как улей. Товарищи механики провели электричество, общими силами первые члены клуба изготовили самую необходимую мебель, собрали книги, заложив фундамент библиотеки; откуда-то взялись портреты Маркса и Энгельса и наиболее популярных писателей. Заново оклеенное обоями ярко освещенное помещение получило приветливый вид.
Открытие «Науки»[править]
как мы окрестили клуб, вышло очень торжественным. Тут были представители самых разнообразных профессий — металлисты, печатники, столяры, портные, модистки, официанты, русские, армяне, татары, грузины, евреи. Был сделан небольшой доклад о целях клуба, как культурного рабочего оазиса, ставившего себе задачей не только умственное развитие своих членов, но главным образом сближение их между собою, предоставление им возможности и минуты досуга заняться тем, что больше всего им по сердцу: изучением какого-либо вопроса, пением, драматическим искусством, просто чтением газет и журналов, получавшихся в читальне, или, наконец, игрою в шахматы и шашки и беседой с товарищами.
Для последнего занятия к услугам желающих устроен «буфет» — в освещенной электричеством темной комнате можно была получить чай с закуской. Доклад вызвал живой обмен мнений, затянувшийся часа на два и показавший, что наше начинание глубоко интересует собравшихся. Даже скептики, утверждавшие, что «ничего не выйдет», стали сдержаннее. Меня лично это собрание очень ободрило — ведь так трудно было вначале сколотить даже небольшую группу инициаторов.
Глядя на оживленные лица, слушая вопросы, сыпавшиеся один за другим, я почувствовала, что наше детище быстро разовьется и станет на ноги. Дальнейшая жизнь клуба вполне оправдала эту уверенность. Не прошло и двух недель, как в клуб записалось столько членов, что помещение не могло их всех вмещать. Была открыта запись в различные кружки: литературный, политической экономии, хоровой, драматический, и всюду желающих оказалось больше, чем можно было ожидать.
В хор записалось свыше 80 человек. Члены кружка отыскали человека, охотно откликнувшегося на просьбу взяться за организацию хора. Не помню его фамилии, знаю только, что то был регент армянского собора, человек, привыкший организовывать и слаживать хор. Он же помог достать и фисгармонию.
И вот, в сравнительно очень короткий срок он обучил своих хористов нотам и разучивал с ними легкие, но красивые вещи, доставлявшие не мало приятных часов членам клуба. Регент был несомненно большой любитель своего дела и, понимая психику взрослых учеников, стремился как можно скорее дать им возможность проявить себя. Конечно, революционных песен нам не приходилось слышать в стенах нашего клуба — слишком много внимания проявляли к нему власти предержащие, — но были разучены народные песни, и месяца через два мы могли уже дать собственный концерт. Особенно красиво ныходила «Ночевала тучка золотая»... Среди певцов оказалось не мало прекрасных голосов, и особенности выделялся один портной. Регент считал, что это — первоклассный голос, прочил ему большую будущность, этот товарищ начал брать специальные уроки пения, но обострившийся туберкулез положил конец развитию его несомненного таланта.
Другим кружком, привлекавшим много охотников, был драматнческий. Тут не обошлось без курьезов. Среди членов клуба было очень много молодежи и, казалось, всех этих юношей тянуло попытать свои силы на подмостках. Товарищ, взявшийся руководить кружком, подробно ознакомил записавшихся с той большой работой, какую им придется проделать, и сделал всем испытание, чтобы ознакомиться с их умением выразительно читать. При проверке оказалось, что многие из этих любителей драматического искусства почти совершенно безграмотны, однако, ни один из них ни за что не хотел отказаться от участия в кружке. После долгих разговоров пришлось столковаться на том, чтобы они сперва подучились грамоте.
Наши будущие артисты хотели не только как можно скорее начать играть, но и играть обязательно на своем родном языке, а клуб по своему составу был поистине интернациональным. Это желание было принято во внимание, и образовались группы для изучения пьес на разных языках. Организуя клуб, инициаторы имели в виду прежде всего помочь сближению его членов, возбудить в них интерес к политическим задачам рабочего класса, наконец, повысить общий уровень их знаний. С этими целями с самого начала было решено регулярно устраивать обзоры политической жизни как России, так и заграницы, а на ряду с этим и лекции на самые разноабразные темы. Обзоры, делавшиеся т.т.Кольцовым, Ежовым и Кнуньянцем, пользовались большим успехом, вызывая разговоры и обсуждения и в последующие за докладами дни.
Лекции касались, как я сказала, самых разнообразных тем — литературных, политических, исторических, вопросов социальной политики. Помню лекцию В.И.Фролова о положении нефтяной промышленности, вызвавшую страстные дебаты, и содоклад другого товарища; затем лекцию Ежова о страховании рабочих.
Особенным успехом пользовались лекции на литературные темы, как, например, о Кольцове, прочитанная Краснянской, и о Салтыкове-Щедрине — В. Фроловым. Первая вызвала необыкновенный подъем. Поэзия Кольцова, поэта из народа, его песни, умелое освещение его личной судьбы в связи с судьбой всей бесправной России — дали богатую пищу для мысли, и в течение долгого времени, в особенности члены из «новичков», еще не нюхавшие революционного пороха, возвращались к затронутым в лекции вопросам.
Говоря о лекциях, не могу не упомянуть о докторе А.Г.Дурново, охотно читавшего для клуба публичные лекции о дарвинизме о происхождении жизни на земле и на другие естественно-научные темы. Прекрасный лектор, понятный любой, даже совершенно неподготовленной аудитории, он умел своими лекциями разрушать религиозные предрассудки и представления слушателей, ни слона не говоря о боге и тому подобных материях. Как лектор, он был один из самых умелых популяризаторов, каких мне приходилось когда-либо слышать.
Уже очень скоро клуб наш сделался не только по названию клубом. Всегда и нем толпился народ. То лекция, то спевка, то какой-нибудь кружок, то члены просто забежали на час-другой потолковать с товарищами. Не пустовал и буфет; здесь всегда можно было узнать все новости местной рабочей и общественной жизни, здесь часто вспыхивали горячие споры по поводу какого-нибудь злободневного вопроса. Тут же сходились члены партийной организации, чтобы повидать кого нужно, передать необходимое; клуб стал своего рода явкой.
Следует отметить, что члены клуба чем дальше, тем меньше являлись только посетителями его; скоро большинство их, каждый по-своему, стали стараться внести что-нибудь свое. Если одни занимались в кружках, слушали лекции и принимали участие в прениях, то другие старались помочь своим малограмотным товарищам, обучая их, а все вместе — привлекать в клуб все новых товарищей по мастерской.
Вначале подавляющее большинство членов составляли мужчины. Женщин было мало, почти все это были ремесленницы. Мы много рассуждали о том, как и чем привлечь в клуб жен членов клуба, пока нам не пришла в голову счастливая мысль устроить на рождество детский праздник — елку, чтобы каждый член мог привести на него своих ребят и их мать. Эта мысль встретила общее одобрение, особенно со стороны женатых членов, и все с большой охотой принялись за дело. Небольшая плата с каждого ребенка позволила устроить угощение детям, драматический кружок разучил подходящие сценки и живые картины для детей, хор подготовил детские песенки, а все вместе — стар и млад — деятельно взялись за изготовление украшений. Надо было видеть, с каким детским удовольствием занимались этим пожилые, почтенные рабочие.
Чем ближе подходило рождество, тем больше стало появляться в клубе женщин, и притом даже таких, каких в Баку не встретишь обычно в общественном месте — татарок и грузинок. Количество желающих принять участие в празднике оказалось очень велико, ограничиться допущением только детей мы не могли — ведь мы хотели прежде всего заполучить к себе женщин, и перед нами встал вопрос о подыскании другого, более обширного помещения, так как иначе ничего из праздника не выйдет. После долгих поисков нашлось подходящее помещение —два раствора больших магазинов-лабазов. На них и остановились.
Праздник прошел как нельзя лучше. Было такое стечение народа, что пришлось разделить вечер на две части. Сначала пустить только детей, а по окончании елки — взрослых. В этот день наш клуб впервые увидел у себя множество жещин-пролетарок, которые отныне стали его постоянными посетительницами, записавшись в члены.
Особенно радовало нас вступление в члены нерусских женщин, до того никогда не появлявшихся на рабочих собраниях. «Наука» представляла собою среди общей мертвечины цветущий островок, где била свежая струя, где звучала живая мысль, и, конечно, она мозолила глаза полиции.
Усилия полиции ввести в нее своих агентов долгое время не приводили к желаемому результату — члены ревниво охраняли свой клуб, а всякое подозрительное лицо без дальнейших церемоний выставлялось за дверь. Так «Науке» удалось просуществовать почти два года, до лета 1910 г., когда на лекцию о Чехове нагрянула полиция и арестовала около 40 человек (в том числе Б. А. Кольцова); клуб после этого был закрыт, а из арестованных более подозрительные в глазах жандармов были отправлены в ссылку после довольно продолжительного тюремного заключения.
Я тогда уже была в Москве, и уцелевшие товарищи писали мне, что члены клуба долго не могли примириться с его закрытием и делали все новые и новые попытки в том или ином виде возродить его. Но наиболее активные работники были высланы или сами поспешили уехать, нужна была слишком большая настойчивость и сплоченность, чтобы преодолеть препятствия, чинимые полицией, и потому эти попытки ни к чему не привели.
По нашему примеру большевики тоже организовали клуб в промысловом районе, где у них было больше связей. Особенно деятельно работали в нем А.Рохлин и Раиса Моисеевна Окиншевич. Если не ошибаюсь, этот клуб открыл одно или два отделения. В дальнейшем его постигла та же участь, что и «Науку».
Б.А.Гинзбург-Кольцов приехал, в Баку позже нас.[править]
Еще студентом, примкнув к социал-демократии (в конце 80-х гг.), товарищ Гинзбург провел много лет в эмиграции, где работал вместе с группой «Освобождение Труда», а в 1905 г. вернулся в Россию; здесь он принял деятельное участие во всех литературных предприятиях меньшевиков. Бесправное положение еврея и невозможность найти заработок заставили его покинуть Петербург и уехать в провинцию.
Лекции и доклады Б.А. в нашем клубе были одними из наиболее посещаемых, хотя и предполагали в слушателях некоторую подготовку. Сближению с рабочими Б.А. мешала его внешняя замкнутость. Его слушатели близко сошлись с ним только в тюрьме, где, по-видимому, постоянное общение в повседневной обстановке обнаружило всю отзывчивость и мягкость его натуры.
В редакции, где у нас были такие горячие головы, как Кнуньянц, Иков, Ежов, он умел сдерживать страсти и вносить умиротворение. Недаром в бытность его за границей его почти всегда избирали в собраниях председателем. До Баку я мало знала Б.А., встречаясь с ним лишь на партийных собраниях. Теперь, в Баку, благодаря общей работе и большей замкнутости нашей группы нелегальных и полулегальных людей, я ближе познакомилась с ним и не могла не полюбить его.
Это был человек книжный, далекий от всего, что касается житейских дел. Этим думаю, объяснялось и его подчас неумение более гибко относиться к практическим вопросам и неумение близко подходить к товарищам. После разгрома «Науки» и довольно продолжительного заключения в тюрьме тов.Кольцов был выслан к Астрахань, где ему вместе с семьей пришлось сильно бедствовать. В 1913 г. он выбрался в Петербург, был секретарем «Луча» и «Новой Рабочей Газеты». С объявлением войны газета была разгромлена, ее главные работники арестованы, и т.Кольцов снова попал в ссылку.
Вернулся он только в 1917 году. Его трудно было узнать — он выглядел совсем стариком. Тем не менее он сейчас же втянулся в работу, взяв на себя заведывание отделом труда при петербургском совете рабочих депутатов.
Другой, гораздо раньше ушедший от нас товарищ, Богдан Кнуньянц, писал для газеты, постоянно участвовал в собраниях редакции и вносил много ценного. Его я знала раньше в Петербурге, как большевика, даже «твердого». В Баку товарищ Кнуньянц, поскольку вообще работал, работал с нами, участвуя во всех меньшевистских литературных и других начинаниях. В эти годы в нем совершался перелом, он подверг критике свои прежние позиции, искал новых путей, и подсказывавшиеся ему трезвым анализом и самой жизнью ответы при-водили его к нам.
Переход этот с одной позиции на другую, как видно, не так-то легко давался ему, он очень болезненно реагировал на резкие отзывы кого-либо из членов редакции о том или другом из его старых товарищей... «Я с вами, — говорил он, — но не забудьте, я ведь большевик». Однако, этот большевизм все больше и больше тускнел, и проделанный Кнуньянцем пересмотр ценностей вплотную привел его к меньшевизму, как свидетельствуют об этом статьи, написанные им незадолго до смерти и напечатанные тогда, когда его уже не было в живых. И он не только подошел к меньшевизму, но и солидаризировался с его «ликвидаторством»: первую из упомянутых статей он заканчивает указанием, «что на стороне ликвидаторов марксистская мысль. На их стороне практика рабочего движения, поскольку она сейчас проявляется. Это в первый раз в ходе нашего рабочего движения, что практики марксисты не находятся в противоречии с марксистской идеологией». («Наша Заря», 1911, кн. 5).
Подобно С. Л. Вайнштейну, с которым Кнуньянца связывала личная дружба и с которым он жил вместе, он отличался большой общительностью, поддерживал самые широкие и разнообразные связи среди бакинского, так-называемюго общества, интересуясь решительно всеми проявлениями жизни, и в этом отношении не походил на большинство из нас, подполыциков, привыкших жить замкнуто в воей среде.
О Кнунъянце знали все в Баку: одни — по прежней его работе в городе, другие, по Литературно-Художественному кружку, третьи, по клубу «Наука», четвертые, по его службе. Тем не менее он почти 3 года продержался нелегальным. Незадолго до ареста его предупредили о грозящей ему опасности, но он как-то несерьезно отнесся к этому предостережению.
Будучи арестован, Кнуньянц очень скоро заразился в тюрьме тифом и погиб всего только 33 лет. В посвященных ему строках В.Ежов справедливо отметил, что «Кнуньянца нельзя было не любить. Даже надломленный физически, он поражал богатством и разносторонностью своей натуры. Пылкий темперамент борца гармонически сочетался в нем с удивительной, почти женской мягкостью и деликатностью. Отзывчивый товарищ, поразительно искренний, в спорах быстро воспламеняющийся и так же скоро приходящий в норму, Кнуньянц всех располагал в свою пользу. Он был богато одарен: прекрасный оратор, публицист, организатор, просто и легко сходящийся с рабочими, он обладал также солидными познаниями».
В качестве прекрасного знатока «нефтяной промышленности и вообще местных условий", чрезвычайно ценным сотрудником и незаменимым «мужем совета» в редакции был Василий Ильич Фролов. Он был старше всех нас годами, имел за собой долголетнее революционное прошлое. Впервые я встретилась с ним в 1900 году, в Великом Устюге, где он отбывал, кажется, уже третью ссылку. Знание людей, умение понять их, любовь ко всем проявлениям жизни, большая наблюдательность и тонкий юмор сделали из В.И. замечательного рассказчика.
Беседа с ним на любую тему всегда доставляла громадное удовольствие. Я думаю, родись В.И. не в эпоху всеобщего бесправия, когда не было отдушины для мысли и свободного действия, он сделался бы крупнейшим культурным работником, а не революционером, так как в нем было все для первого и мало той односторонности, той фанатичности, которые, по-моему, должны быть в известной мере присущи последнему.
Оставаясь большим приспособленцем в жизни, он сохранил полнейшую несгибаемость в том, что касалось основных его взглядов и убеждений; тут он шел до конца, ни с чем не считаясь, ни перед чем не отступая. В последующие годы он перебрался в Москву, где продолжал работать в нефтяной промышленности.
Не могу не упомянуть об умерших в 1925 году Марии Львовне и К. Моисеевиче Рабинович. Это были пожилые люди, примкнувшие к социал-демократии в зрелом возрасте, когда человек вполне сложился. Конечно, ни психологически, ни по своим привычкам, они не могли принять непосредственное участие в революционной борьбе, но они и не оставались только «сочувствующими».
Хорошие зубные врачи, недурно зарабатывавшие, с скромными потребностями, они не только оказывали поддержку лично им известным революционерам, но и содействовали всем, чем только могли партийной работе: деньгами, предоставлением своей квартиры, своего адреса. Не помню, чтобы когда-нибудь я встретила у них отказ, если обращалась к ним за помощью в том или другом деле. Они с интересом следили за литературой, за движением, у них находили приют нелегальные.
Они получали для нас на свой адрес нелегальную литературу, а когда в 1909 году поехали за границу лечиться, охотно взялись отвезти туда наши письма, а по возвращении привезли нам письма редакции «Голоса Социал-демократа». Почти до самой их смерти, а они умерли почти одновременно с промежутком в один-два дня, я поддерживала с ними переписку и видела, что до последней минуты они оставались верными себе.
Осенью 1909 г., когда еще не успела у нас наладиться как следует работа «Науки», некоторые товарищи, на которых мы рассчитывали как на лекторов, должны были покинуть Баку. Множились признаки того, что приближается гроза, что жандармы пронюхали кое о ком из нелегальных. Первым из нашей тесной группы уехал В.К.Иков, а спустя некоторое время, кажется, в ноябре, ко мне днем неожиданно прибежал товарищ из редакции «Нефтяного Дела» с известием, что в Совет Съезда только что приходил околоточный и настойчиво добивался увидеть секретаря журнала, а когда т.Кольцов вышел к нему, он, растерявшись, заявил, что это не тот, кого ему нужно.
Путем расспросов он установил, что т.Кольцов только недавно занял эта место, тогда тот потребовал назвать ему имя и фамилию его предшественника. Кольцов оговорился незнанием, околоточный направился к заведующему хозяйством, чтобы у него получить соответствующую справку. Сомнений не было, вполне определенно искали В.Ежова.
Было очевидно, что за выяснением его фамилии и адреса последует немедленное посещение квартиры. Я поспешила по телефону сообщить С. И. Цедербауму о происшедшем, а затем ликвидировала в каких-нибудь полчаса нашу квартиру (мы занимали две меблированные комнаты) и с сынишкой перебралась к товарищам Фейнбеог, где и пробыла несколько дней, пока подыскала себе комнату в противоположной части города.
Взяв свой настоящий паспорт, по которому перед тем жила жена Кнуньянца, я прописалась теперь уже как Захарова, поскольку за «мною никаких грехов не числилось. С.И. провел у меня около недели, пока не удалось добыть для него новый документ, с которым он и отправился в Москву. Отъезд т.Ежова осложнил наше положение. Теперь уже мне одной приходилось зарабатывать на нас троих, пока он в Москве не устроится.
Проще всего было для меня набрать побольше уроков, которыми я занималась почти все время пребывания в Баку. Теперь я была занята ими почти без перерыва с 9 часов утра до 7 часов вечера. Вечера отдавала клубу. Уроки ввели меня а среду местной буржуазии. Что за кунсткамера прошла передо мною! Здесь наблюдалась та же пестрота, какою отличалась и вся вообше жизнь в Баку.
Вот культурная армянская семья, где детям стремятся дать наилучшее образование. Мать следит за занятиями, обсуждает с учителем наилучшие методы преподавания. Дети изучают языки, музыку, для них приобретают физические приборы, всевозможные учебные пособия, их водят в театр. К учителю внимание, но и корректная холодность. Отец, приглашая учительницу, ведет с нею продолжительную беседу, желая выяснить и степень ее знаний, и ее взгляды. Здесь вам легко и приятно заниматься, так как вы чувствуете, что знания тут уважаются и ценятся. Таков был дом крупного армянского нефтепромышленника.
Но вот меня приглашают давать уроки в семье богатого купца Кащеева, владеющего наливными баржами, ведущего крупную торговлю нефтью, старовера, со всеми свойственными представителю хищнического капитала чертами. Богатая обстановка, роскошный кабинет. Прекрасно обставленная столовая, в которой чуть ли не после каждой трапезы натирают пол, две горничные, наводящие вместе с хозяйкой чистоту, а детской служит узкая полутемная прихожая, в которой забили дверь на парадную лестницу, чтобы не ворвались экспроприаторы.
Глава семьи 68-летний старик, весь век проживший тем, что копил деньгу, обирая и эксплоатируя всех, кто попадал к нему в лапы, не уважающий ничего, кроме умения «составить капитал». Его вторая жена, еще молодая, дебелая женщина, уже чутьем понимающая, что детей надо учить, и всячески старающаяся уломать мужа согласиться на связанные с этим расходы.
Здесь дети в загоне, их «учат» зуботычинами, окриком. Один ребенок, 12-летний мальчик—эаика, (потому что однажды его так «наказали», что это отразилось на всей его нервной системе); у другого, восьмилетнего, плешь на голове, так как у него «слабые волосы» и, как говорит мать, «не растут после того, как я его один раз потрепала». Тут отец все время поднимает глаза к небу и говорит о спасении души, норовя в то же время обсчитать или обобрать кого-нибудь. Старик считает учение излишним, учителя — бездельником и неудачником. Чтобы записать детей в библиотеку, мать, тратящая с согласия мужа сотни на наряды, утаивает от него пару рублей и просит «не проговориться». Здесь дети — завсегдатаи улицы, откуда они приносят непечатные выражения, умение ловко обмануть, незаметно стащить что-нибудь из дома, чтобы проиграть в тире.
А вот и третья разновидность — разбогатевший мусульманин. У него на женской половине несколько жен, выходящих в чадрах, но он сам, приобщившись к культуре, хотя бы чисто внешним образом, начинает уже тяготиться своей домашней обстановкой, и если не заводит на стороне, наряду с законными женами-единоверками, сожительницу-европейку, с которою всюду таскается, то старается несколько изменить положение у себя дома и приглашает учительницу, которая учила бы его жен не только русскому языку, но и европейским манерам и обращению.
Тут учительницу ждет много интересного, неожиданного. Ведь эти ученицы-татарки — настоящие дикарки. Они и непосредственны, и наивны, и застенчивы. Их все интересует: новая обстановка, когда надо сидеть за столом, пользоваться вилкой и ножом вместо того, чтобы расположиться на ковре и брать еду руками с общего блюда, новые наряды европейские вместо шаровар и чадры, и ряд всяческих мелочей. Они с трудом решаются показаться на улице без чадры, чувствуя себя так, будто их выводят голыми перед толпой.
А между тем глава семьи уже не только приобщился к европейской культуре, его уже не различишь среди европейцев; он посещает театр, читает книги, следит за газетами, знает подчас языки, имеет друзей во всех слоях общества. Сколько тут в семье недоразумений, сколько слез, взаимного непонимания, отчаяния и отчуждения. Роль учительницы не ограничивается здесь учебой, она своего рода воспитательница, воспитательница взрослых женщин, часто уже матерей, которых ей предстоит вырвать из властных объятий традиций, из-под влияния родственниц старших поколений.
С тех пор, как это прошло перед моими глазами, минуло 20 лет многое, несомненно, изменилось, революция должна была глубоко пройтись по новой жизни. Хотелось бы потрясти этот мир и создать условия для того, чтобы снова заглянуть в этот интернациональный город и понаблюдать слагающийся новый быт и новые отношения
Прошло несколько месяцев. Меня звали в Москву, и я приступила к ликвидации своих бакинских дел. В это время, в марте поехал в Баку В.П.Ногин, недавно вернувшийся из-за границы с пленума ЦК и успевший уже посетить несколько городов. Пленум, как известно, явился последней серьезной попыткой объединить обе фракции и возродить партийную организацию и работу в России. В Баку тов.Ногин приехал с целью информировать организации о пленуме и о положении дел в партии.
Для заслушания его доклада на квартире В.И. Фролова собралось человек 12 меньшевиков (отдельно им был сделан доклад для большевиков). Не скрывая общего развала организаций, констатируя, что почти нигде не ведется партийная работа, он и теперь доказывал, что нельзя сидеть скрестивши рук, что пора напрячь все силы, чтобы воссоздать действующий и России ЦК, оживить работу местных комитетов.
Этим закончился бакинский период моей жизни.
Материал из сборника "Каторга и ссылка" 1929, ноябрь, №60 предоставлен Е. и Е.Шеин