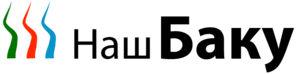Жаров Михаил Иванович - артист Версия от 01:58, 10 апреля 2010; I am (обсуждение | вклад)
Жаров Михаил Иванович - артист[править]
1899 - 1981
Михаил Иванович родился в Москве 27 октября 1899 года. В 1915 году шестнадцатилетнего Михаила Жарова приняли в театр "Опера С. И. Зимина". Рассказывает дочь актера Елизавета Жарова: "Знаете, есть такой штамп - "долговязый подросток с тонкой шеей". Вот таким и был 16-летний папа - худой, длинный, вихрастый. Он служил у Зимина на посылках: выполнял мелкие поручения, в частности, разносил билеты для бедноты…".
На сцене Михаилу Жарову доверяли роли бессловесных статистов. Впервые он появился перед зрителями в опере Кюи "Капитанская дочка". Михаил изображал инородца, который вылезает на сцену из-под забора и получает палкой по голове. На первом же спектакле Миша от удара потерял сознание и, придя в себя, твердо решил: "Буду артистом".
В том же 1915 году Жаров впервые снялся в кино. Произошло это случайно. В театр пришел человек из съемочной группы и пригласил всех желающих сняться в массовке кинематографического варианта оперы Римского-Корсакова "Псковитянка" с Шаляпиным в роли Ивана Грозного. Жаров боготворил Шаляпина. К тому времени он уже не раз участвовал в массовках спектаклей, где играл этот знаменитый певец. Теперь же представилась возможность поработать рядом с ним на съемочной площадке.
В фильме Михаил Жаров изображал опричника. Ему приклеили бороду, посадили на коня… В кадре промелькнул он лишь мгновение, да и то узнать его было достаточно трудно, но, тем не менее, это был его кинематографический дебют.
Немного отучившись в Театральной студии Ф. Комиссаржевского,в 1920 окончил студию при театре ХПСРО (Художественно-просветительного Союза рабочих организации).
В 1921 году поступил в Рогожско-Симоновский театр имени Сафонова. Проработав там неполный год, он перешел в Театр Мейерхольда. Там он с успехом играл эпизодические острохарактерные роли: мадам Брандахлыстову ("Смерть Тарелкина", 1921), секретаря ("Учитель Бубус", 1925), денщика ("Мандат", 1925). Актер был уморительно смешон, азартен, напорист. В 1926 году Жаров покинул Мейерхольда.
Он работал в Бакинском рабочем театре (1926-1927 и в 1929 г.), в Казанском Большом драматическом театре (1928), в Реалистическом театре (1930), в Московском Камерном театре (1931-1938). Среди наиболее запоминающихся персонажей тех лет: нелепый домоуправ ("Зойкина квартира", 1927), балагур Васька Окорок ("Бронепоезд 14-69", 1927), демобилизованный буденновец ("Первая Конная", 1929), грубоватый матрос Алексей ("Оптимистическая трагедия", 1933).
Наиболее полно раскрылось актерское дарование Жарова в Малом театре, где он играл с 1938 года и до конца своих дней. Здесь ему доставались в основном роли классического репертуара: Мурзавецкий ("Волки и овцы", 1941), внушительный Городничий ("Ревизор", 1946), неуемный Прохор ("Васса Железнова", 1952), пьяница Иннокентий ("Сердце не камень", 1954), злобный, невежественный Дикой ("Гроза", 1962).
Народный артист СССР (1949) Лауреат Государственных премий СССР (1941 - за участие в фильме "Пётр Первый", 1942 - за участие в фильме "Оборона Царицына", 1947 - за театральную работу) Герой Социалистического Труда (1974).
Из воспоминаний Михаила Ивановича Жарова[править]
В Бакинском рабочем
Баку в 1926 году открылась новая страничка моей жизни. Страничка поучительная во многих отношениях.
К началу театрального сезона я опаздывал. Задержался на съемках картины «Аня» режиссеров Ольги Преображенской и Ивана Провова. Это была инсценировка рассказа из времен гражданской войны.
Сезон в Баку уже начался, а натурные съемки на Каспии были тс полном разгаре. Снимали очень интересный эпизод: бой рыбачьего парусника с белогвардейским катером. Время еще не изгладило из памяти местных жителей недавние бои с белыми, к киносъемкам еще не привыкли, и каспийские рыбаки, услыхав перестрелку, бросились к берегу доложить начальству о ЧП. Оказывается, забыли предупредить о стрельбе, и у директора картины Блиоха были большие неприятности с местными властями...
Наконец, хоть с запозданием на месяц, я - в Баку. Вот он - город черного золота, город буйный и тихий, черный и белый, где женщины ходили тогда под покрывалом и казалось, что им нечем дышать.
Город, где по капризу всевышнего то ласкает солнце, как на лазурном побережье, то дует сильный норд, забивая песок в рот, нос, глаза, хлопая ставнями окон.
Такой я нашел эту знаменитую столицу. Да, именно столицу, но не пышную, официальную, а трудовую, с большим отрядом рабочего класса и прекрасной интеллигенцией. Здесь зритель не просто смотрит спектакли, - он следит за работой театра, он знает актеров, у него есть своп любимцы, которых он не даст в обиду.
Театр также знает своих зрителей, нарядных и любознательных, каждый день шумно заполняющих зал. Короткая, но выразительная табличка на кассе: «Билеты все проданы» - красноречиво подтверждает, что дружба со зрителем есть и контакт налажен. Итак, я буду работать не в провинций, где надо завоевывать город, а в театре, где «аншлаг» - событие естественное, где зритель - строгий критик и судья.
И все-таки, когда я вошел в театр и встретился с косыми взглядами незнакомых актеров, с которыми мне предстояло бок о бок творить, я понял, что не все так лучезарно. - Актер на лучшие роли,- так отрекомендовали мне, как бы советуя: «запомните и не суйтесь!»,- любимца не только бакинской, но и тифлисской публики Н.А.Соколова.
Этот актер с большим творческим диапазоном играл действительно все лучшие роли - от комиков до героев. Талантливый человек, он прекрасно аккомпанировал себе на гитаре, недурно пел. Зная вкусы театральной провинции, Наум Соколов редко играл роли без песенки. Он обязательно находил место для какого-нибудь романса или куплета, хотя подчас это было не так уж необходимо. Он властвовал в театре полностью. Хотя, как потом мне удалось установить, и у него была слабинка, своя «ахиллесова пята» - тщеславие, распространенная актерская болезнь, из-за которой мы, теряя над собой контроль, нередко совершаем большие и малые промашки.
Была в труппе молодая героиня - красавица Н. И. Огонь-Догановская, за которой В. 3. Швейцер ездил специально в новосибирский «Красный факел». Был талантливый, смешной, толстый, а потому, вероятно, и флегматичный комик А. Н. Стешнн.
Был актер Б. Л. Томский, хороший малый, мечтавший играть героев, но не достигавший в этом успеха, ибо следил в роли главным образом за внешностью своего персонажа, за его галстуком.
Я мог бы описать всех моих новых товарищей, потому что каждый из них - от «малого» актера до «великого» - был колоритной фигурой, в которой много еще жило от старой театральной провинции. Актеры провинции ведь были особым племенем разноликих и разноязычных художников, чаще всего объединенных случаем: «нынче - здесь, завтра - там». Об общем творческом методе в ту пору не могло быть и речи. «Метод на сезон нас не устраивает!» - говорили они.
Да и вообще о методе тогда шел разговор разве только в Художественном театре. Даже у Мейерхольда не было своего стройного и последовательного учения. Руководители студий и периферийных театров, увлеченные и подогреваемые пропагандой идей Пролеткульта, объявили свою приверженность к «левому фронту» и с готовностью устремлялись под знамя Мейерхольда, который, как известно, сам сторонился пролеткультовцев.
Но не обладая ни талантом, ни опытом, ни способностью осмыслить его эксперименты, они превращали в догму внешние приемы мастера. Если у Мейерхольда прием, как правило, служил конкретной идейной цели, был средством раскрытия содержания, то у его новоявленных самостоятельных последователей он превращался чаще всего в фетиш, оборачивался в свою противоположность, приближая опасность формализма. Поэтому сам Мейерхольд чрезвычайно боялся так называемых «учеников Мейерхольда».
Когда произносили эти слова, он трясся от бессильного гнева, ибо вскоре понятие «мейерхольдовщина» приобрело значение ругательства. Когда люди хотели сказать: «непонятно, сумбурно, черт знает что!» - они стали говорить: «мейерхольдовщина!».
В то время любой человек из театра, научившись, как ему казалось, работать «а ля Мейерхольд», мог в карьеристских целях явиться в местное управление Политпросвета и с апломбом заявить: «Давайте, я вам организую такой левый театр, что мы самому Мейерхольду нос утрем. Я мейерхольдовец, я знаю, чем он дышит». О подобном не столько хвастливом, сколько неумном заявлении одного вновь назначенного главного режиссера мне и рассказал директор театра.
К нам, приехавшим в Баку из Москвы, да еще из театра Мейерхольда, стали особо присматриваться, от нас ждали каких-то таинственных новаторств. Ожидание нарастало и особенно обострилось, когда художник Илья Шлепянов и режиссер Василий Федоров, с благословения директора Швейцера, сняли бархатный мягкий занавес и заменили его занавесом «современной конструкции», то есть громоздким рулоном, поставленным «на попа».
Этот рулон из мелких планочек, наклеенных на холст, навертывался тросами на барабан в правую часть сцены и стоял, как башня. Так «занавес» выглядел, когда был «открыт», если можно было применить к нему этот термин. Закрывался он сложнее. Надо было, разматывая «занавес» с правого барабана, дотащить его через всю сцену до левого портала. Я всегда со страхом подходил к «закрытому» занавесу - середина его, не находя опоры, зловеще раскачивалась, грозя то и дело рухнуть на первые ряды кресел партера.
Актеры перешептывались: «Новаторство заело - теперь наше дело следить за ширмами и станками, как бы они не рухнули, а играть будут в соседнем театре. За что, боже? Смилуйся над нами!».
Зритель, наоборот, все новаторства принимал с любопытством и даже с интересом. Мейерхольдовская группа приехала за месяц до открытия сезона и сразу начала репетировать три новых спектакля. Федоров ставил боевик «Собор Парижской богоматери», режиссер Иванов ставил нашумевшую «Зойкину квартиру» Булгакова, режиссер Арсений Рыдаль ставил пьесу, названия которой я сейчас не помню. Местные актеры встретили нас, как я уже сказал, настороженно, не зная, «с чем нас едят» и кто кого будет «есть». В особо невыгодном положении оказался я: не приняв из-за киносъемок участия ни в одном из трех новых спектаклей, я оказался «чужаком».
Желая смягчить неловкость, вызванную моим вынужденным опозданием, В. 3. Швейцер, знакомя меня с труппой полушутя сказал: - Не подумайте, что это гастролер, опаздывающий к сезону. Нет, наша кинозвезда просто немного задержалась на съемках, - и, улыбнувшись, добавил: - Теперь кается! А, в общем, прошу любить и жаловать! С места в карьер я начал репетировать в «Комедии о войне и любви» («Шоколадный солдатик») Б. Шоу роль Блюнчили, которую играли б свое время молодой Радин, молодой Петипа. Ставил спектакль Федоров. - Братцы, а вы меня не подведете? Вы уверены, что я это - Блюнчили. Ведь он любовник?! - Не были бы уверены, не ждали бы тебя! - За это спасибо! Но страшновато... Ведь я - простак. - А ты знаешь, о чем пишет Шоу? Вот то-то и оно-то, начинай лучше работать! - ответил Федоров, широко улыбаясь своей доброй улыбкой.
Шлепянов добавил: - Не волнуйся! Все продумано, а насчет любовника... ты будешь, эффектен, за это я ручаюсь. Вот посмотри эскизы твоих мундиров.
Действительно, в эскизах я выглядел роскошно. Белый плащ, красный и голубой мундиры. Оставалось только играть. Я появлялся на сцене то в красном, то в голубом, обвораживая публику и Огонь-Догановскую, игравшую героиню - сербиянку Райну. Но разве дело только в этом? Разве только это мне надо было преодолевать?
Многое из того, что меня волновало и беспокоило в роли Блюнчили, с помощью режиссуры мне удалось все-таки решить. В нашей трактовке он получился не традиционным любовником, а настоящим армейским офицером, и публика в это поверила. Мне тепло и сердечно аплодировали.
Как ни обидно об этом писать, но аплодисменты и до сих пор являются критерием оценки. Обида заключается в том, что подчас и мастерски проведенную сцену, и грубый трюк зритель равно отмечает аплодисментами. Только тонкое и взыскательное ухо может отличить подлинный восторг зрителя, без которого не может жить художник, от шумного внешнего успеха - пустоцвета.
Законы, установившиеся между сценой и зрителем, хотя и не писаны, но непреложны. Они бытовали и в Бакинском театре, и хотели мы этого или нет, но сначала просто считались с этим, а потом тоже включились в борьбу «за количество скандированного шума в, зале».
Когда начались репетиции «Шоколадного солдатика», в котором из новичков играл я один, я слышал, как «старики» судачили: «Подумаешь, фигура, снимается в кино! Зачем же тогда приехал в Бакинский театр? Снимался бы себе там, в Москве, и дело с концом. Посмотрим, что это за явление!». Сами они репетировали, что называется, «вполноги», не раскрывая целиком себя, но зато собирались в зале и молча следили за тем, как я работаю с полной отдачей.
Когда мы оставались одни, друзья меня подбадривали: - Видим... все видим... А ты держись, не распускай свои нервы... Не выходит - ничего, добивайся...
И я работал, работал не за страх, а за совесть. Мобилизовал все силы, тем более что роль Блюнчили не совпадала с моей индивидуальностью и мне пришлось очень многое в себе преодолеть. Только позже я понял, какая это была суровая и нужная школа.
Чудесный человек, режиссер Арсений Рыдаль, посмотрев несколько репетиций, вызвал меня на откровенный разговор: - Ничего, ничего... Я тебе посоветовал бы вот что...
Рыдаль был режиссером с большим опытом. Он знал, как работать с актером, и сделал мне ряд великолепных подсказок. Почувствовав, что я отношусь к его советам без верхоглядства, без этакой модной снисходительной улыбки: «Спасибо, мол, тебе, дорогой провинциальный режиссер, за подсказку столичному артисту», он открывал мне то, о чем я и не подозревал, работая в московском театре.
- А еще я тебе скажу вот что: собери всю свою силу и обопрись на молодость. Тебе могут здесь делать ужасные гадости даже прекрасные артисты. А ты молчи и смотри, как они играют, наматывай себе на ус. Следи за ними в спектаклях как они умеют говорить, строить фразу, как они умеют лепить образы, подмечать жизненные характеры, потому что им приходится играть много, часто и разные роли, и они не должны повторять себя. Бытие определяет... Слушай, как каждая реплика идет у них от сердца, как публика будет им за это аплодировать, кричать. Они станут играть с удовольствием, чтобы показать, что «и мы не лыком шиты», чтобы поставить тебя на место. Но ты не смущайся, а главное - не поддавайся ни на какие провокации, давай им должный отпор. И рано или поздно их нападки прекратятся. Сегодня ты дашь им отпор, завтра будешь их лучшим приятелем. Скажешь: это волчий закон,- да. К нему их приучил хозяин... И это еще живет.
Рыдаль мне очень помог, помогли и мои товарищи.
Снова в Баку
Итак, я снова приехал в Баку, соскучившись по напряженной работе, сознавая, что еще не все получил от периферии и не всей ей отдал.
Главным режиссером в Баку был тогда другой мой товарищ по мейерхольдовскому периоду С. А. Майоров, очень смелый экспериментатор и талантливый художник. Театр к тому времени имел уже хорошую репутацию как театр новаторский, резко покончивший с традициями старой провинциальной сцены. Дух нового, который наша группа принесла с собой в Баку три - четыре года назад, победил здесь окончательно. Однако не обошлось и без крайностей.
Первой программной постановкой этого сезона было «Горе от ума» Грибоедова. Сергей Майоров и. молодой художник Сергей Ефименко сделали одну из самых заумных и ультрасложных постановок грибоедовской комедии, которую мне когда-либо доводилось видеть. В погоне за ложнопонятым новаторством они оказались большими католиками, чем папа римский. Неуемная фантазия Майорова разыгралась в этом спектакле безудержно.
Я играл Молчалина, Александров - Чацкого, Сувирова - Софью, Сальникова - Лизу, Стешин - Фамусова. Работа над спектаклем началась как «во всяком приличном доме». Нам прочли лекции о декабристах, о Грибоедове, мы изучали работы литературоведа Н. К. Пиксанова...
Но когда вышли на сцену, все пошло кувырком. В знаменитом диалоге Чацкого с Молчалиным, который всегда отлично слушается зрителем, режиссеру показалось, что одного грибоедовского текста мало. Надо обострить их поединок физическими действиями. И на одной из репетиций он заставил нас «выйти на волю, в сад» и вести свой диалог, бросая друг в друга снежки. Мне всегда нравится пробовать озорно и смело, а не вышло - не беда!
Снежки были сделаны из ваты заранее и сложены в кучу. Мы стояли «в снегу» в зимних черных накидках и скорее были похожи на Онегина и Ленского, чем на Чацкого и Молчалина. После ударной реплики то я, то Александров кидали друг в друга белый комок. Я ловко изворачивался от снежка Чацкого и, выполняя указания режиссера: «сшибай, сшибай с него цилиндр!», - умудрялся порой попадать в головной убор Чацкого. Так и играли эту сцену в спектакле. Но я уверен, что, если бы спросили публику, о чем мы разговаривали в этой сцене, она не смогла бы передать, но зато точно знала, сколько раз Молчалин сбил цилиндр с головы Чацкого.
Верхом режиссерского озорства в этом спектакле была сцена, когда Софья рассуждает о Молчалине и Чацком, взвешивая их пороки и достоинства. Она произносила свой монолог на нижней площадке сцены, а на верхней площадке, в глубине, справа от нее стоял Чацкий, слева - Молчалин. Метровые квадраты паркета, на которых мы стояли вдруг начинали подниматься и опускаться, как чаша весов, в зависимости от того, к кому склонялась в своих рассуждениях Софья. Этот лобовой иллюстративный прием казался нам очень интересным и новым. Тем более что, когда весы поднимались, нарочито обнаруживался весь их грубый механизм.
Но мы стали замечать, что зрительный зал вдруг замирает и весь превращается в слух в тех скромных и проходных, как нам казалось сценах, где все было спокойно, где отдыхала режиссерская выдумка. И актеры, отдавшись целиком чудесному грибоедовскому тексту, с наслаждением играли в удобных, немудреных мизансценах, забывая о всяких «весах» и «снежках». В этом была великая мудрость зрителя. И, странное дело, спектакль шел часто и при переполненном зале. Чудесный бакинский зритель был внимателен к нам и терпеливо сносил наши творческие поиски, эксперименты.
После Молчалина я отдался работе над «Первой конной» Вс. Вишневского. Здесь все было мне любо и мило: и рваная раздробленность драматургии Вишневского, и грубая, правда характеров, и сочный народный язык, и образы людей, каких я знал и видел. Театр хорошо понял пьесу и с огромным успехом ее поставил. Я играл в этой пьесе две роли, как и большинство других актеров: анархиствующего солдата и бойца-буденновца.
Если в первой роли я недалеко ушел от других исполнителей стереотипного образа лихого фронтовика, то на второй роли я отыгрался с лихвой. Это была маленькая, сюжетно законченная сцена в теплушке, когда солдат-буденновец, едущий в отпуск с фронта, ухаживает за молодкой. Он рассказывает ей, как красные занимали Ростов и били Деникина.
Сама по себе эта сцена является великолепной новеллой писателя Вс. Вишневского, написана она необыкновенно живо, с сочным, народным юмором и в отличном темпе. Простая по замыслу и сюжету, эта сцена как бы рождена для эстрады. Ее очень часто читал великолепный актер Дмитрий Орлов. Но он рисовал образ буденновца несколько патетически, возвышенно, в героическом плане. Я же нашел совершенно другой ключ к образу. Героику я взял на вооружение, и она помогла мне обольстить молодку.
Мой веселый, жизнерадостный солдат-буденновец спал и вдруг, открыв глаза, видел перед собой красивую молодку. Встрепенувшись, надвинул буденновку на вихры, надел перчатки и пошел в «атаку». Как ее обольстить? Решил - рассказами о своих подвигах. Иллюстрируя атаки и наступления конницы, он ловко и точно - по смыслу текста - то обнимал молодку, то ласково поглаживал ее.
Зал заливался от смеха. С этой сценой я потом смело вышел на концертную эстраду и играл ее пятнадцать лет подряд.
Сезон 1929-30 года был для Бакинского рабочего театра юбилейным.
Под звуки гимна торжественно взвился занавес на сцене в праздничный вечер, зрители и артисты, горячо аплодируя друг другу, встретились лицом к лицу.
Мне со сцены были видны восторженные лица в зале. Я видел, как блестели глаза людей, когда они смотрели на любимых актеров, когда узнавали в них полюбившихся героев спектаклей, как аплодировали тогда с новой силой. Артисты же сидели на сцене со скромным достоинством, словно именинники в ожидании подарков.
Особенно бурно приветствовали А. Ф. Сальникову. Ее любили все. Она, молодая, красивая и стройная в великолепном красном платье, стояла строго, как на часах, со знаменем театра в руке. Театр в день его десятилетия наградили орденом Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР. Все было торжественно и сердечно. А через два часа спектаклем «Севиль» Дж. Джабарлы началась юбилейная декада отныне уже Бакинского рабочего краснознаменного театра, объединявшего в этом спектакле азербайджанскую и русскую труппы.
Севиль играла выдающаяся актриса азербайджанского театра Марзия Ханум Давудова. Я волновался ужасно, мне пришлось играть отца ее мужа, старого азербайджанца, смело вступившего на защиту угнетенной невестки. Но первый выход показал, что все свое волнение я спокойно могу переключить на роль. Приняли меня хорошо, весело.
Все это я вспомнил, когда приехал с Малым театром на гастроли в Баку летом 1964 года. Собственно говоря, я не приехал, а прилетел, сев в Москве в пять часов дня и уже через два с половиной часа прибыв в Баку - два с половиной часа, подумать только! В 1926 году этот перелет занял у меня сутки, и это считалось необыкновенно быстро. А теперь - чудо, сказка!
То же самое произошло и с городом, и с промыслами. Я уже с самолета видел целые острова вышек на железных сваях города в море, тянущиеся с берега ажурные эстакады, и вспомнил, как мы ходили на набережную с удивлением смотреть, как недалеко от берега опускали своп ноги в воду первые одинокие вышки. Тогда, тридцать три года назад, это было диво...
Город преобразился неузнаваемо. Он украсился новыми бульварами и набережной, широкими европейскими улицами и новыми кварталами, удобными, уютными гостиницами и открывшейся для взора многочисленных туристов, как бы снявшей с себя чадру, Девичьей башней. Одним словом, это был тот случай, когда я почувствовал, что прошедшие годы меня состарили, а город омолодили. Зрители меня встретили как земляка. На аэродроме старый друг по театру крепко обнял и сказал: «Аи, яй, яй! Какой широкий и плотный стал, а у нас был стройный и красивый. Аи, яй! Ждем тебя, вспоминаем, ходим в кино спасибо сказать».
Когда объявили по окончании гастролей - на Празднике воссоединения, - что мне присвоено звание народного артиста Азербайджанской ССР, я, так же как и в тридцатом году ощутил себя именинником и так же заволновался...
А в том сезоне, как ни печально в этом признаваться, я вдруг увидел, что горение, которое характеризовало работу этого театра, когда я впервые в него попал, которое меня и удерживало и привлекало, стало ослабевать. К тому же крепкая ниточка, которая связывала меня с кинематографом, стала толстой веревкой, все упорнее и сильнее тащившей меня обратно в Москву.
И я распрощался с Бакинским рабочим театром, хотя у меня сохранились о нем навсегда самые лучшие воспоминания.