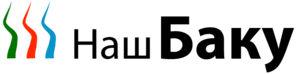Михаил Александрович Павлов "Воспоминания металлурга"
Михаил Александрович Павлов "Воспоминания металлурга"[править]
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ДЕТСТВО. СЕМЬЯ. ШКОЛА
I[править]
Родился я в такой обстановке, рос в такой глуши на окраине страны, что ни мне самому, в детстве и юности, ни кому-либо из знавших меня не могло и сниться, что я стану инженером, профессором и ученым.
Когда врачи спрашивают меня, какие болезни перенес я в детстве, я отвечаю, что не имею об этом никакого представления: в тех местах, где я рос, не было врачей, там некому было ставить диагнозы, в моей семье не знали даже таких названий, как скарлатина, дифтерит, знали только малярию, которую называли «лихорадкой» и которая там трепала беспощадно всех. У меня нет ни одной фотографической карточки, где я был снят мальчиком, нет фотографий бабки, деда и матери: в тех местах, где я рос, не было фотографов.
Мой дед, у которого я провел детство, был донским казаком Усть-Быстрянской станицы. Он был женат на казачке из Кундрючьей станицы, по фамилии Кариевой. В 1855 году, во время русско-турецкой войны, он сражался с турками на Кавказе и после заключения мира остался там служить, выписавши жену; она оставила на Дону взрослых сына и дочь. Донские казаки охраняли русско-персидскую границу. Затем, когда пограничная служба в этом районе перешла к кубанским казакам, дед перечислился в кубанское казачье войско и по-прежнему остался на границе, в пустынной малонаселенной местности, где десятки километров отделяют одно поселение от другого. Служить бы и мне на персидской границе, если б не моя врожденная, очень сильная, близорукость.
Дед очень хотел воспитать меня, как настоящего казака. Он ребенком научил меня ездить верхом на лошади, подарил мне, мальчику, ружье и научил стрелять.
Я выйду, бывало, во двор, спугну воробьев, увижу, что они сели на коньке крыши, и палю в них дробью, хотя ясно воробьев не различаю. Глядь, — валится с крыши воробей. Я торжествую, а дед ворчит:
— Миша, ну кто же стреляет воробьев, ведь их не едят!
В другой раз я стреляю в голубей, которые не боятся людей и подпускают близко. Дед опять недоволен:
— Разве можно убивать голубей? Их грешно есть. Ведь голубь изображает духа святого на иконах. Поедем, Миша, вместе дичь стрелять.
Но как только дело доходило до настоящей дичи, ничего у меня не выходит. Едем дорогой. Дед вдруг останавливает лошадь и шепчет:
— Смотри, Миша, заяц притаился в кусту. Стреляй.
— Где? Не вижу.
— Да вон он, под тем кустом. Гляди, прижал, уши и думает, что его не видно. Стреляй скорей.
— Не вижу, дедушка.
— Экий ты. Гляди.
Дед, наконец, сам стреляет. Заяц прыгает в предсмертной судороге и падает мертвым.
— Ну, теперь видишь?
— Вижу.
Часто дед брал меня с собой на рыбную ловлю. Он объяснял мне, что удочку надо дергать не тотчас, как дрогнет поплавок, а несколько позже, когда он пойдет под воду. А я, едва различая поплавок на воде, никак не мог уловить момент, когда надо «подсекать».
Дед настойчиво, несмотря на неудачи, продолжал воспитывать меня по-казачьи, учил всем видам охоты. Он лелеял мечту когда-нибудь увидеть меня казачьим офицером и долго не мог от нее отказаться.
II[править]
Расскажу про деда несколько подробнее. Я хорошо помню его крупную фигуру с широкой грудью, увешанной медалями, красивую голову с раздвоенной «николаевской» бородой, пробритой на подбородке.
В кубанское войско он перешел в чине урядника, что соответствует чину пехотного унтер-офицера.
Ближайший город, куда деду иногда приходилось ездить, находился в 40 километрах от границы. Это — Ленкорань, административный центр Ленкоранского уезда, или бывшего Талышинского ханства, — очень маленького ханства, «покоренного русскими, в царствование Александра I. Оно отделяется от Персии Талышинским хребтом, идущим параллельно берегу моря, и небольшой речкой Астарой, впадающей в Каспийское море. Население в ханстве очень редкое: туземцы частью были перебиты, частью после завоевания края русскими переселились в Персию. Русских поселений от границы до Ленкорани нет, только вблизи города есть деревня Вели, населенная потомками донских казаков, сосланных сюда при Николае I за «старую веру». Севернее Ленкорани, по направлению к Муганской степи, тянется ряд цветущих, богатых поселений сектантов, сосланных сюда русским правительством.
Севернее этих поселений (их всего 4—5) расстилается огромное пространство безводной Муганской степи. Теперь эта степь ожила, там произведены и производятся большие работы по обводнению и разводится хлопок.
В Ленкоранском уезде, где протекает 5—6 мелких речек, в мое время была распространена культура риса. Путем запруживания этих речек образовывались в низинах большие заболоченные площади, где возделывался рис; они являлись рассадниками малярии. Теперь в этих местах с успехом разводят чайные плантации.
Скажу еще несколько слов о своеобразной природе южной части Ленкоранского уезда. О том, что этот край когда-то был культурным, свидетельствуют остатки садов, которые тянутся на всем протяжении от Астары до Ленкорана. Из фруктовых деревьев здесь растут: яблони, инжир (смоковница), груши, тутовое дерево, гранаты, дерево со съедобными плодами, называемыми «шишками» (ботанического названия его я не знаю), и особый вид желтой сливы — алыча. Растет и дикий виноград, который, когда созреет, становится очень вкусным. Все пространство между деревьями сплошь заросло колючей и непроходимой «дерезой» (разновидность ежевики), через которую не может пробраться даже скот. Вероятно, раньше она насаждалась здесь для изгородей.
Ближе к горам сохранились дубовые и ореховые леса, которые совершенно не использовались. Все эти заброшенные земли принадлежали бывшему талышинскому хану, но потомки его совершенно обеднели. В бакинском реальном училище были два его потомка, которые именовались Талышхановыми.
Не было желающих использовать земли и леса в этом малолюдном крае.
Мысль об эксплуатации дубовых и ореховых лесов бывшего «Талыша» явилась очень поздно, во время империалистической войны. Ввиду того, что у меня не будет случая упомянуть об этом в дальнейшем, я, забегая далеко вперед, расскажу здесь один эпизод из моей жизни.
В 1915 или 1916 году ко мне в кабинет металлургии Петроградского политехнического института явился инженер путей сообщения, ранее мне не знакомый. Представившись, он сказал:
— Я прибыл из далекой окраины, с персидской границы, из владений бывшего талышинского хана. Мы рубим там дубовые и ореховые деревья, распиливаем их на плахи, но у нас остается много корявых деревьев и значительное количество сучьев. Из них можно выжигать превосходный древесный уголь для доменных печей. На берегу моря находятся залежи черного песка. Я принес вам его показать. Скажите, действительно ли это железная руда?
— Вы нашли это около озера Каладагия?
— Да. А почему вы узнали?
— Потому что я оттуда родом. Да, этот песок — смесь настоящего магнитного железняка с обыкновенным песком.
Разглядывая черный песок, привезенный с персидской границы в Петроград, я вспомнил, как удивлял взрослых казаков такой игрой: насыпал песок на бумагу, а под ней водил магнитом, под действием которого шевелились и перекатывались песчинки, образуя причудливые фигуры.
Инженер попросил произвести анализ пробы песка. По моей просьбе сделали анализ и определили довольно высокое содержание железа в песке и вместе с тем присутствие в нем титана. Инженер попросил меня составить записку о постройке древесноугольных доменных печей на берегу Каспийского моря, в бывшем Талышинском ханстве. Я с особым удовольствием отнесся к этому предложению, радуясь, что, может быть, доменные печи появятся там, где я рос ребенком. Как ожил бы тогда этот край?
Однако, — вероятно, из-за войны и разрухи, — ничего не было предпринято для постройки завода. Инженера, пришедшего ко мне с этой идеей, я больше никогда не видел. А между тем для меня несомненна и сейчас полная возможность и целесообразность постройки чугуноплавильного завода у озера Каладагия на берегу Каспийского моря.
Быть может, это со временем будет еще сделано, так как сейчас полным ходом идет преобразование этого края, а на всем Кавказе еще нет доменных печей.
III[править]
Граница между Персией и Россией охранялась так называемыми казачьими постами, расположенными на расстоянии 20—30 километров друг от друга. Пост представлял собой глинобитный барак, в котором помещалось десятка полтора-два казаков.
При одном из постов находился офицер, начальник сотни. В такой резиденции начальника сотни и служил мой дед. Родился я в местечке Божий Промысел. Для любителей точности, к которым и сам принадлежу, сообщу дату: произошло это событие 9 января 1863 года. Еще ребенком я был привезен матерью к деду на Астаринский пост.
Пост стоял у самой границы, буквально в нескольких шагах от речки Астары, за которой расстилалась Персия. Наше местожительство называлось Русская Астара. На персидской стороне был небольшой торговый городок Персидская Астара. Русские хозяйки каждый день отправлялись туда на рынок. В жаркое летнее время, когда Астара мелела, они переходили реку босиком.
В Русской Астаре стояло всего несколько домов для пограничной таможенной стражи, пакгауз для осмотра и хранения товаров и дом с квартирами таможенных чиновников.
Мой дед с бабкой и я жили на посту. Я хорошо помню это длинное глинобитное здание и рядом небольшой отдельный домик для сотника. В одной комнате его жил сам сотник, а в другой и в кухне хозяйничала моя бабка.
Сотником был офицер из богатой помещичьей семьи Стромиловых. В нашем захолустье он оказался, как неизлечимый алкоголик, сосланный родными из Петербурга, где он служил раньше в привилегированном полку. В пьяном виде он не буйствовал, и это все ценили в нем. Он очень любил рисовать и был, думается, художником не без таланта. В своих картинах в карандаше он зафиксировал все, что видел вокруг: лес, горы, Каспийское море, пост, таможенных чиновников Астары, моего деда, кривоносого перса Насыра, о котором будет речь впереди. Портреты его отличались поразительным сходством.
Под начальством этого офицера служил дед. Он, собственно говоря, и управлял всем хозяйством сотни, исполняя почти все обязанности сотника.
Дед немного владел грамотой, мог читать, расписываться, поставить номер, но распоряжения, которые ему иногда приходилось составлять, были написаны совершенно безграмотно.
Считать, однако, он умел отлично, хотя нигде, никогда не обучался арифметике. Здесь надо сказать об одной особенности деда — он хорошо знал и любил хозяйство.
Благодаря этой особенности дед нашел себе неплохое применение в сотне: он заведовал хозяйством, на его обязанности лежала заготовка сена, ячменя и т. п. Эти операции дед производил по поручению главного начальства, т. е. полкового командира, жившего далеко от Астары и очень выгодно для себя использовавшего хозяйственные способности деда.
Казаки на границе изнывали от скуки, и для них не было ничего приятнее, как косить траву, перевозить сено и т. д. Эта делалось в виде развлечения, а результатом дарового труда являлось дешевое сено. В отчетах о заготовке фуража указывалась стоимость его по так называемым справочным ценам. Разница между справочной и фактической ценой и составляла доход полка — главным образом, доход полкового командира и полкового казначея.
После окончания заготовительной кампании, «за усердную службу», деду выдавали вознаграждение, — для него, может быть, и порядочное по размеру. Однако расходовать деньги дед совершенно не умел. Едва получив их, он. покупал что-нибудь ненужное и, сколько я его помню, никогда не имел денег. Однажды он получил так много, что купил себе золотые часы. Бабушка его упрекала:
— Ну, скажи, на что тебе золотые часы?
Дед сконфуженно отвечал:
— Мише останутся, когда помру. (Разумеется, часы скоро были проданы с убытком).
Кроме сена, дед заготовлял ячмень: его приходилось покупать у персов, ожесточенно торгуясь с ними.
Тут деду помогал перс Насыр. Всех удивляла дружба Насыра с дедом. За помощь дед Насыру никогда не платил. Чем-нибудь угостить Насыра он тоже не мог, потому что Насыр мусульманин, а мусульмане считали русских погаными («мундар»). В Астаре на базаре нельзя было ничего тронуть руками: продавец-перс непременно кричал: «мундар, мундар!». Персы-торговцы считали, что товар становится поганым, если русский тронет его пальцем (деньги, однако, они не считали погаными и брали охотно). Поэтому Насыр никогда ничего у нас не ел. На что он жил, неизвестно: по-видимому, средства к существованию ему доставляли его две вечно работавшие жены.
Насыр был хороший друг деда. Оба они любили торговаться, высчитывать выгодность покупки, но занимались этой деятельностью словно искусством для искусства, не внося в нее личной корысти, не стремясь к обогащению. На этом, вероятно, и держалась их странная дружба.
IV[править]
Самое раннее мое детское воспоминание таково. Меня разбудили глубокой ночью и сказали: «Едем в Ленкорань». Посадили в телегу и двинулись в темноте.
Эта поездка была вызвана тем, что моя мать долго болела и ее решили свезти к доктору в Ленкорань. Оказалось, однако, что привезли ее слишком поздно, она умерла на следующий же день.
Я довольно отчетливо помню похоронную процессию, погребение, но совершенно не помню самой матери, хотя мне было уже семь лет. Это очень странно, потому что, как уверяли близкие, мать научила меня читать и писать. Вероятно, облик матери заслоняется в моей памяти бабушкой, которая с первых дней моей жизни всегда была около меня и после смерти матери заменила мне ее. Об отце у меня нет никаких воспоминаний, он умер раньше матери.
Бабушка вела домашнее хозяйство, дом держался ее энергией и умом. Дед хлопотал по казенным делам, но для себя не умел ничего приобрести.
Ко мне бабушка была очень добра; я не помню, чтобы она наказывала меня, но, будучи занята хозяйством, целиком предоставляла меня самому себе. Я рос, что называется, уличным мальчишкой, хотя, нужно сказать, в нашей Астаре и улицы-то не было. Мальчишек тоже было весьма немного: два сына начальника таможенной конторы Знаменского, один годом старше, другой годом моложе меня, и еще два-три мальчика, дети низших таможенных служащих.
Несмотря на то, что бабушка была простой малограмотной казачкой, ее принимали как равную в местном «обществе», состоявшем всего из начальника таможни и его двух подчиненных-чиновников.
Моей тетке, младшей сестре моей матери, посчастливилось выйти замуж в Астаре за мелкого чиновника, помощника Знаменского. Я говорю «посчастливилось», потому что хотя моя тетка была умной и красивой женщиной, но, как и бабушка, необразованной, едва умевшей читать и писать.
Муж моей тетки дождался повышения — его перевели в Ленкоранскую таможенную контору. Вместе с ним уехала в Ленкорань и моя тетя. Бабушке стало без нее скучно, и она решила переехать к ней поближе. Она всегда умела настоять перед дедом на своем. Он ей подчинился и на этот раз.
V[править]
Между Астарой и Ленкоранью расположен промежуточный пост близ большого озера Каладагия. Это озеро находилось у самого берега Каспийского моря и соединялось с морем очень коротким протоком. Так как из озера вытекала пресная вода, то к устью этого протока всегда собиралась морская рыба. В озере водилось множество разнообразной рыбы, а в камышах, окружавших озеро, жили дикие свиньи.
Бабушка уговорила деда переехать туда, на двадцать километров ближе к Ленкорани. У озера находился казачий пост,— не пограничный, а служившей лишь связью между Астарой и Ленкоранью и станцией для смены лошадей. На этом посту жило около 10 казаков, и их лошади использовались для проезжающих офицеров, для доставки эстафет и т. д. Начальником этого поста был назначен дед. Конечно, для деда это было некоторым понижением по службе, но зато жить он стал лучше: бабушка в один год развела на озере большое птичье хозяйство, а дед организовал охоту на кабанов, не оставляя, конечно, всех видов рыбной ловли.
Мой дед был страстным охотником и рыболовом, бабка — великолепной хозяйкой. Здесь, у озера Каладагия, природа всячески благоприятствовала склонностям их обоих.
На озере я прожил около года. Со времени смерти матери уже прошло два года. Мне исполнилось девять лет, когда из Ленкорани приехала тетя для серьезного разговора обо мне. «Мишу надо учить», — сказала она. Дед и бабка согласились.
Но каким образом это осуществить? Моя тетя уже имела двух ребят, ожидался третий; у нее нельзя поместиться — квартира мала. Но она упросила священника (грузина по происхождению) взять меня в свою семью, указав ему на выгоды, которые от этого воспоследуют. Дед не мог платить за меня деньгами, но бабка развела столько птицы, что могла прокормить любую поповскую семью.
— Вы, — сказала священнику тетка, — поместите его в комнату с вашими сыновьями, а его дед будет привозить вам столько гусей и уток — живых, соленых и копченых, — что вам хватит на целый год.
Священник согласился, дед тоже. Согласился, конечно, и я. Я очень любил свою тетю, которая была также и моей крестной матерью и старалась заменять мне мать. «Раз тетя говорит, — рассуждал я, — значит, так надо».
Таким образом, в моей жизни совершилось первое важное событие: осенью 1872 года я переехал в Ленкорань учиться.
Ленкоранское городское училище состояло всего из двух классов. Первый класс разделялся на три отделения. Я уже мог читать, но писал очень плохо; меня приняли во второе отделение. Большое внимание в школе уделялось чистописанию: каждый день нас заставляли писать. Вскоре я обнаружил хорошие успехи в чистописании, стал бегло читать, поэтому прошел в один год два старших отделения первого класса.
В возрасте десяти лет я оказался во втором классе и через год окончил городское училище. Других учебных заведений в Ленкорани не было, и учиться было негде.
За время учения в школе никаких особенных событий в моей жизни не произошло. Большим горем была для меня смерть тети, которая умерла от родов третьего ребенка.
В Ленкоранской школе учились дети четырех национальностей: грузины, армяне, азербайджанцы и русские. Дети жили очень дружно, никакой вражды между ними не существовало. Когда наступал какой-нибудь праздник, то к русским, отмечавшим этот день обильным угощением, присоединялись татары, грузины и армяне. Если праздновался мусульманский праздник, скажем, Новрус Байрам (9 марта — Новый год), то на поле, где устраивались игры и скачки, отправлялись с песнями вместе с азербайджанцами и русские.
В школе существовала какая-то особенная атмосфера общей дружбы. Я, физически слабый, не видел от своих товарищей ни насмешек, ни издевательств, ни побоев. Будучи уже взрослым, я читал в газетах о диких проявлениях вражды между кавказскими национальностями, но для меня, видавшего их дружбу, было ясно, что эта вражда вызвана искусственно, что кто-то натравливает одну национальность на другую.
VI[править]
Когда я окончил второй класс школы, возник вопрос: куда же мне деваться дальше?
Бабушка узнала, что Знаменский, о котором я упоминал, получил повышение: переведен из Астары в Баку членом таможенной конторы.
Так как бабка была принята в семье Знаменских, то она попросила своего зятя, бывшего сотрудника Знаменского, написать ему, не возьмет ли он меня к себе нахлебником в Баку. Условия были предложены те же, что и в Ленкорани: снабжение его семьи птицей. Знаменский без особых уговоров согласился. Это предложение пришлось ему, вероятно, очень кстати, потому что жизнь в Баку была гораздо дороже, чем в Астаре. Осенью 1874 г. я перебрался в Баку.
Но для того чтобы обеспечить мое поступление во второй класс реального училища, младший учитель Ленкоранской школы взялся меня подготовить. Он занимался со мной все лето, проходя разные предметы и даже начальную астрономию. Между прочим, он заставлял меня чертить карты, и это оказалось очень кстати.
Когда я явился на экзамен, то экзаменующий педагог спросил:
— Ты можешь начертить карту Каспийского моря?
— Могу.
— Начерти. (Я начертил). Можешь показать, где находится город Баку и где город Астрахань?
— Могу.
— А город Петровск?
Я почему-то ждал, что он попросит показать Астару и Ленкорань. Эти места, в которых я провел детство, казались мне важными географическими пунктами. Я ясно отметил их места на карте. Но педагог не спросил об этих пунктах. Он сказал мне «отлично» и отправил на место. По другим предметам я тоже отвечал хорошо и был принят во второй класс Бакинского реального училища.
ГЛАВА ВТОРАЯ.[править]
БАКУ. РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
I[править]
Я перебрался в Баку к Афанасию Васильевичу Знаменскому, который помнил меня ребенком и согласился принять в свою семью. Без этого счастливого обстоятельства я не получил бы среднего образования, ибо единственное среднее учебное заведение на весь Прикаспий имелось лишь в Баку; сюда стекались ученики из городов, довольно отдаленных от Баку, — Шуши, Шемахи, Кубы.
В Баку находился и единственный естественный и удобный русский порт Каспийского моря. Поэтому почти вся торговля с Персией шла через Баку. Там происходила так называемая «очистка товаров». Таможенные чиновники просматривают товары, берут пошлину, кладут клеймо, и после этого товар считается «очищенным». Очевидно, для служащих таможни это было выгодным занятием, хотя тонкости этого дела мне не известны. Помню лишь, что, водворившись в семье Знаменских, я в первые же дни был поражен обилием в доме лакомств.
Дело в том, что все персидские купцы подносят таможенным чиновникам «пешкеш», т. е. подарок. Это — безгрешный доход таможенных служащих, о котором все знали и который никем не считался предосудительным. Этот «пешкеш» составляли всевозможные фрукты и сласти. Когда не было свежих гранат, апельсинов и лимонов, подносился миндаль, сушеные абрикосы, фисташки, все виды кишмиша и разнообразные персидские конфеты в оригинальных коробках из тонкого белого дерева. Все эти сладости в доме Знаменского поедались без всякого ограничения.
Сам Знаменский, показался мне в то время довольно странным типом. В Астаре он был гостеприимным человеком; у него часто собиралось то небольшое общество, которое талантливо изображал на своих рисунках наш сотник. Знаменский любил петь и организовал в Астаре небольшой хор. Словом, он казался там общительным и приятным человеком.
Но в Баку, когда я познакомился с ним ближе, он был уже другим: у него никто не бывал из знакомых, и он никогда не ходил в гости, а проводил время в одиночестве. Около трех часов дня он возвращался со службы, обедал и ложился спать. Поднявшись, он начинал ходить по комнате взад и вперед, регулярно через небольшие промежутки времени останавливался около буфета и выпивал рюмку водки. Затем продолжал ходить и опять прикладывался к графину. Помнится, в одной из пьес Чехова изображен председатель земской управы, который выпивает через каждые пять минут. Таким человеком был и Знаменский. Когда он кончал пить, я не знаю, ибо детей отправляли спать, а он продолжал ходить. Это повторялось каждый вечер.
Я прожил у Знаменских целых три учебных года, как член семьи, помещаясь в одной комнате с сыновьями Знаменского. Жили они прилично и ни в чем не нуждались; к столу часто подавалась птица, присланная моим дедом.
Не повезло мне только в том, что сыновья Знаменского были неспособными, ленивыми учениками и никак не могли оказать на меня хорошего влияния. Находясь в более интеллигентной семье, я мог бы развиваться значительно быстрее и лучше учиться.
II[править]
Учился я ни хорошо, ни плохо. Каждый год я переходил из класса в класс. Однако я мог бы учиться гораздо лучше, если б меня не преследовали два мои врага: врожденный — близорукость и благоприобретенный — малярия.
Моя близорукость была какой-то особенной: нельзя была подобрать стекол, чтобы я мог нормально видеть, и я даже в очках не различал того, что учитель пишет на доске.
Из-за близорукости в младших классах реального училища я был предметом насмешек: меня дразнили тем, что я ничего не вижу, подставляли ножку, устраивали со мной всяческие шутки, иногда очень грубые.
Я уже не чувствовал себя в Баку так хорошо, как в начальной школе. Национальной розни и здесь еще не чувствовалось, на резко проявлялось различие между богатыми и бедными, особенно характерное для этого большого промышленного и торгового города. Наряду с детьми видных бакинских чиновников, с детьми морских офицеров — так сказать, аристократов, — а также богатых азербайджанцев, армян и грузин, в реальном учились и дети простых ремесленников, бондарей, изготовлявших бочки, в которых в то время перевозился керосин.
Между детьми из этих слоев населения Баку замечалось некоторое отчуждение.
Так как я, кроме звания казака, ничего за душой не имел, то котировался невысоко, и мне в школе жилось хуже, чем в Ленкорани, где я чувствовал себя равным со всеми.
Кроме того, в реальном господствовал культ грубой физической силы.
Среди учеников торжествовало кулачное право примерно до шестого класса, когда юноши начинали понимать, что пользование кулаками не подобает образованным людям.
Впрочем, я был настолько смирным и физически слабым, настолько явно неспособным вступать в драку, что мне не слишком доставалось. В шестом и седьмом классах среди моих хороших друзей были и армяне (Абазов, Вермишев), и азербайджанцы (Джебраил-бек и Фаррух-бек).
При своей близорукости я не мог усваивать на уроках ни алгебры, ни геометрии, так как не видел на доске формул, даже сидя на передней скамейке. Пробел в классных занятиях я должен был восполнять усиленной работой дома.
Вместе с тем меня неотступно преследовал другой враг — малярия.
После переезда в Баку аккуратно через два дня на третий меня била лихорадка. Пароксизм начинался около 11 часов утра. Потягивались все члены, потом поднималась зевота, я чувствовал, как горит голова, и, наконец, переставал понимать, что говорит учитель. В таком состоянии меня отправляли домой. Пароксизм продолжался несколько часов. К вечеру все проходило, я вставал и мог даже играть и приготовлять уроки.
В течение двух следующих дней я чувствовал себя здоровым настолько, что каждый раз готов был верить, что совершенно выздоровел, что все прошло, но на третий день во время второго урока начиналось то же самое. И это длилось год за годом в течение трех лет, без единого нарушения этой свирепой периодичности.
Однажды я случайно встретил молодого врача, только что приехавшего из Москвы, который по какой-то надобности зашел к Знаменскому. Я рассказал ему, что в течение трех лет страдаю лихорадкой.
— А чем вы лечитесь?
— Хиной.
— Но ведь ваш организм привык к хине. Она уже не действует.
— Не знаю. Так лечатся здесь все.
— Нет, вы так никогда не вылечитесь. Вам нужно принимать внутрь или впрыскивать мышьяк. В этом я могу вам помочь.
Он прописал мне мышьяк, и вскоре я действительно выздоровел. Я с благодарностью вспоминаю этого врача, навсегда запомнил его фамилию — Корженевский.
К тому времени я перешел в пятый класс, и сразу после выздоровления учиться стало легче. Казалось, теперь все пойдет у меня лучше.
Но тут произошло событие, перевернувшее мою беззаботную жизнь у Знаменских.
В течение всего времени моего пребывания нахлебником у Знаменских я не мог пожаловаться на плохое к себе отношение.
Но как-то однажды, когда я вернулся из школы, в переднюю выскочил Знаменский и, обращаясь ко мне, закричал:
— Убирайся от меня к черту! Мне надоело кормить тебя даром.
Я никогда не слышал от него ничего подобного и был просто ошеломлен.
— Как даром? Ведь мой дед платит вам?
— Какой черт платит. Вот я покажу тебе, сколько ты мне должен.
Выносит записную книжку, раскрывает ее и называет сумму несколько меньшую ста рублей.
Возмущенный поведением Знаменского, я отвечаю:
— Я заплачу вам эти деньги.
— Посмотрим, как заплатишь, а пока убирайся.
— Куда же я пойду?
— Иди к Мономаховым. Они тебя примут.
Я не упомянул, что в доме Знаменских иногда бывали две женщины, одна из них Мономахова, другая Копанева. Это были единственные знакомые, которых принимали у себя мои хозяева.
Мне ничего не оставалось, как отправиться к Мономаховым.
III[править]
Мономахов — морской офицер, капитал 2-го ранга, красавец-мужчина, атлет — встретил меня очень приветливо. Впрочем, сначала ко мне вышла мадам — красивая женщина, бывшая артистка.
Я рассказал ей о своем положении. Она старалась меня успокоить:
— Ничего, Миша, не волнуйся. Оставайся у нас.
Я объяснил ей, что уплачивать за меня деньги дедушка не может, он платил Знаменским продуктами. Это ее нисколько не удивило, она, видимо, была заранее подготовлена к моему приходу и согласилась поселить меня у себя в доме.
У Мономаховых я встретил двух сыновей моего возраста, которых знал по реальному училищу, затем одного сына-малыша и двух дочерей, т. е. довольно значительную семью, и понял, что если дед станет доставлять сюда продукты, то все будет хорошо.
Мне так никто и не объяснил, из-за чего обрушился на меня Знаменский. Могу высказать лишь предположение: по всей вероятности, начались перебои в доставке птицы. В последний год моей жизни у Знаменских умерла моя бабушка (как ни странно, от скоротечной чахотки). Дед погоревал-погоревал, но, будучи человеком еще крепким и имея большое хозяйство, женился второй раз на старообрядке из Вели, более молодой, конечно, чем была бабка, но ленивой. Во всяком случае, она или не хотела или не могла справиться с большим птичьим хозяйством, которое развела моя бабка. Она стремилась поскорее ликвидировать его и вскоре, уже после моего ухода от Знаменского, достигла своего. Затем заставила деда переехать в Ленкорань, где тоже стояли казаки. В это время, однако, произошло другое событие — повышение деда по службе. В штаб-квартире, где жил полковой командир и сосредоточивалось главное хозяйственное управление полка, сообразили, что следует использовать хозяйственные способности деда для всего полка, и перевели его в штаб-квартиру (называвшуюся Геок-Топа — зеленый холм), где он с женой получил особое помещение. При дележе доходов ему перепадали уже большие крои, чем раньше. Но, несмотря на это, денег он по-прежнему никогда не имел.
Свертывание хозяйства деда, вероятно, скоро отразилось на снабжении семьи Знаменских и «привело к тому, что меня без всяких разговоров выгнали.
Мне пришлось бы очень круто, если бы меня не приютили Мономаховы. Но прожил я у Мономаховых недолго.
Вскоре после своего переезда к Мономаховым однажды ночью я проснулся от страшного шума. Вижу, сыновья Мономахова бегают полуодетые из одной комнаты в другую, откуда-то доносится плач девочек, и все это сопровождается каким-то необычайным шумом. Оказалось, что этот шум производил сам Мономахов. Он с ревом бегал из одной комнаты в другую, из одного угла в другой, а дети в страхе прятались. Я вспомнил, что сыновья Мономахова как-то хвастали, что с отцом может справиться только Ахмет — его денщик, матрос из казанских татар. Я не спросил тогда, что значит «справиться», но теперь мне стало это ясно. Я понял, что Мономахов страдал запоем и когда напивался, то начинал буйствовать. Кончалось это тем, что Ахмет, улучив момент, схватывал его сзади, укладывал на кровать и силой заставлял лежать, пока Мономахов не засыпал от усталости.
Я ждал, что же будет утром. Однако утром все в доме идет, как ни в чем не бывало. Мономахов с виноватой улыбкой целует у жены руку, ласкает маленького сына, спрашивает меня, был ли я когда-нибудь на Баиловом мысу, видел ли военные корабли. Я отвечаю отрицательно. Он любезно говорит:
— В таком случае я вас поведу на Баилов мыс.
Затем сажает в экипаж сыновей и меня, везет на Баилов мыс, где стояли тогда военные корабли, да едет на корабль, показывает, объясняет. Матросы приветливо встречают его, — видно, что относятся к нему хорошо. Позже я узнал, что болезнь мешала Мономахову продвинуться во флоте, и он стал «сухопутным моряком», так как не годился для плавания на кораблях. Но он был добродушный, славный человек, и моряки, любили его.
Через некоторое время произошел второй припадок, который продолжался уже двое суток. Я не спал две ночи, скрываясь от Мономахова. Тут, конечно, было не до уроков.
После двух бессонных ночей надо идти в класс. Но как объяснить, почему не приготовлены уроки?
Я увидел, что не могу учиться, живя у Мономаховых.
Тут я вспомнил еще об одном человеке, посещавшем Знаменских, которого я знал в Баку, — госпоже Копаневой.
Замечу, кстати, что впоследствии я узнал, зачем приходили к Знаменским две дамы — они занимали у них деньги.
Итак, я решил отправиться к Копаневой. Мне открыла дверь кухарка и «сообщила, что мадам куда-то ушла, ко барин дома, и я могу, если желаю, переговорить с ним.
Подхожу к Копаневу, которого никогда не видел раньше. Это — Губернский пробирер, очень почтенный старичок. Откровенно рассказываю ему о своем положении и говорю, что не знаю, куда мне деваться. Он отвечает:
— Переходите ко мне. У меня есть старший сын, который кончает курс в вашем реальном и дает уроки, но он со мной не живет, так как не ладит с мачехой (Копанев был женат второй раз). А от нее у меня есть два сына, которых нужно подготовить к приему в приготовительный класс. Так вот, если вы беретесь подготовлять этих ребят, если будете заниматься с ними по часу-два в день, то я буду вас кормить и поить.
Легко представить мою радость. Мне на выручку опять пришел счастливый случай. Я не знал, куда деваться, и вдруг мне предлагают урок, хотя я только что перешел в пятый класс и мне еще не исполнилось пятнадцати лет. По бакинским ценам полный пансион стоил двадцать пять рублей, дешевле ни в одном порядочном доме нельзя поместиться. Пребывание в пансионах, которыми промышляли наши учителя, стоило гораздо дороже, но повышенная плата в них была своего рода взяткой учителям. Таким образом, реалистом пятого класса я оказался в роли репетитора, не нуждающегося в помощи деда.
IV[править]
Вскоре после того, как я переселился к Копаневым, меня как-то встретил младший сын Знаменского и сказал:
— Папа просит тебя зайти.
Прихожу.
— Вот, — говорит Знаменский, — ты заявлял, что заплатишь долг.
— Да, заплачу.
— Так я дам тебе возможность это сделать.
— Каким образом?
— А вот — мой Николай отличился: получил за четверть двойку по математике. Приходи с ним заниматься по арифметике и алгебре три раза в неделю.
— Хорошо. Но как я буду с вами расплачиваться?
— Ты будешь зарабатывать у меня восемь рублей в месяц, причем пять рублей будешь получать на карманные расходы, а три рубля пойдут на уплату долга. Согласен?
Я был пойман на слове и мне ничего другого не оставалось как согласиться.
— Хорошо, — говорю я, приду завтра заниматься. Возвращаюсь от Знаменского и размышляю: пять рублей я буду получать, а три рубля пойдут в счет долга. Выходит, что я три учебных года буду работать у Знаменского «батраком», потому что восемь рублей в месяц за урок — это ничтожная плата по бакинским условиям.
В Баку, в отличие от университетских городов, не было многочисленной нуждающейся интеллигенции, не было студентов, понижающих стоимость репетиторской работы, ибо в Баку не было ни одного высшего учебного заведения. Поэтому роль репетиторов исполняли реалисты шестого и седьмого классов, которые всегда находили уроки. Старший сын Копанева, ученик седьмого класса, самостоятельно жил на заработок от уроков.
Я знал, что, перейдя в шестой класс, обязательно буду зарабатывать. Поэтому, когда я заявил Знаменскому, что заплачу ему долг, это не были слова на ветер. Я был уверен в том, что говорю, я твердо знал, что заплачу, — только не мог сказать, когда это произойдет.
И вот теперь он сам предложил мне урок с удержанием в счет долга по три рубля в месяц. Ну, нет, я не желаю «батрачить» на него три года.
Прихожу на другой день, занимаюсь с Николаем, а после урока говорю Знаменскому:
— Афанасий Васильевич, вы предложили удерживать с меня по три рубля в месяц. Но ведь я очень долго буду выплачивать вам свой долг. Лучше удерживайте с меня по пяти рублей, а три рубля выдавайте мне на карманные расходы. Тогда я скорее с вами расплачусь.
Знаменский удивился, но не мог не согласиться со мной.
Итак, будучи в пятом классе, я подготовляю двух детей Копанева, занимаясь с ними каждый день, и хожу три раза в неделю к Знаменскому заниматься с его Николаем, который на год моложе меня.
Проходит учебный год, я перехожу в шестой класс, но по-прежнему должен обрабатывать свой долг Знаменскому.
Уроки у Знаменского отнимали у меня слишком много времени. Неудобство этих занятий состояло в том, что я жил далеко — на окраине города, на горе. Мне приходилось спускаться по главной улице до центра, называемого Парапетом (квадратная площадь в середине старого Баку), потом повернуть к морю и затем, идя по набережной, свернуть к Знаменскому.
Но путь можно было значительно сократить, идя пустырем, через бывшее мусульманское кладбище. После кладбища следовала мусульманская часть города с ее узкими, темными улицами и затем набережная. Я часто избирал этот путь, но, когда проходил по бывшему кладбищу поздно вечером, мне было жутко.
Приехав на рождество к деду, я рассказал ему о занятиях у Знаменского и добавил:
— Хорошо, что я зарабатываю деньги, но ходить мне страшно.
Дед подарил мне казачий кинжал, показал, как прикреплять его на подкладке пальто, чтоб, засунув под полу пальто руку, можно было держать кинжал за рукоятку. Дед много раз демонстрировал мне приемы пользования кинжалом, пытаясь выучить меня этому искусству.
— Когда тебе что-нибудь покажется подозрительным, — внушал он мне, — моментально вытягивай кинжал и угрожай тому, кто на тебя может напасть.
Вернувшись в Баку, я ходил к Знаменскому с кинжалом. Чувствуя его на груди, я храбро шагал в темноте по кладбищу и по узким подозрительным улочкам, но мне никогда не пришлось защищаться.
V[править]
Я уже говорил, что первые три года, т. е. во втором, третьем и четвертом классах реального училища, из-за близорукости и малярии я учился посредственно. Но в пятом классе, избавившись от малярии, я стал выправляться.
Подготовка сыновей Копанева и репетиторство у Знаменского оказались для меня очень полезными, в особенности, занятия с Копаневыми. Тут мне пришлось серьезно поработать головой.
Дело в том, что в приготовительном классе реального училища проходилось (по арифметике так называемое «умственное счисление»; ученик обязан был решать в уме, например, такую задачу: один мальчик купил 3 яблока и 1 грушу, заплативши 14 коп, а другой — за 1 яблоко и 3 груши дал 18 коп. Спрашивается, сколько стоят яблоко и груша? Мне нужно было не только самому решать подобные задачи, чего я легко достигал алгебраическим путем, но и объяснить, как решение производится в уме, причем объяснить мальчикам тупым, малоспособным. Это было довольно трудно, но за то я великолепно усвоил «умственное счисление».
Чтобы не ронять своего достоинства при более серьезных занятиях с Николаем, я решал все задачи, которые могли быть заданы по курсу арифметики и алгебры. Кончилось это тем, что я решил буквально все задачи, которые были в учебниках Малинина-Буренина и Давыдова. Таким образом, я задним числом, через два года, усваивал то, что должен был знать раньше, и поэтому я знал учебник от корки до корки, да, сверх того, мог решать все задачи в них.
Я очень любил заниматься историей и литературой, и когда мы в шестом классе стали писать сочинения, то я выделился среди других учеников. Надо сказать, что пока дело шло о географии, арифметике и алгебре, то азербайджанцы и армяне знали эти предметы в общем так же, как и русские. В частности, первым учеником у нас был до шестого класса Джебраил-бек. Грамматику и синтаксис русского языка туземцы усваивали тоже хорошо, но когда доходило дело до сочинений, до характеристик героев русской «классической литературы, то здесь им приходилось трудно. И вот в шестом классе по истории и русскому языку, по сочинениям, первым был уже не Джебраил-бек, а я. Вследствие этого я завоевал особую симпатию учителя русского языка Азлецкого.
Однажды, вскоре после начала занятий в шестом классе, после урока русского языка подозвал меня Азлецкий, отвел в сторону и сказал:
— Вот что, Павлов. Один морской офицер просит подыскать репетитора к своему сыну. Я порекомендовал тебя. Ты соглашайся, потому что мальчик способный, родители богатые.
Дал мне адрес. Я отправился. Морской офицер оказался очень милым человеком.
— Вы будете,— говорит, — заниматься с моим сыном два раза в неделю. Я буду платить вам двадцать пять рублей в месяц.
Когда он назвал такую сумму, я даже растерялся.
— Попробуйте сейчас, — говорит, — позаниматься, а потом скажете о впечатлении.
Я иду, занимаюсь. Потом говорю отцу:
— Вашему сыну не нужен репетитор, он способный мальчик.
— И вы поэтому считаете, что с ним не надо заниматься?
— Да. Он решил все задачи без моей помощи. В приглашении меня есть какое-то недоразумение.
— Никакого недоразумения. Именно в том-то и беда, что мальчик способный, но совершенно не занимается дома. А ему мало слушать уроки в школе, мы хотим, чтобы он занимался и дома. Мать проверяет его по русскому языку и по истории, а вас мы просим делать то же по математике.
Я ушел, все еще не веря своей удаче. Неужели мне будут платить по 25 рублей каждый месяц за то, что я буду всего два раза в неделю заниматься со способным мальчиком? Ведь это вносит переворот в мое материальное положение. Деньгами, полученными за два месяца занятий у моряка, я смогу сразу рассчитаться со Знаменским, избавиться от целого года занятий с его глупым сыном. Знаменскому я выплачивал, как сказал, по пяти рублей в месяц.
И я тут же принял решение — два месяца не тратить ни копейки из того, что получу от моряка, чтобы сразу уплатить весь долг и развязаться со Знаменским.
Кончился первый месяц моих занятий с сыном морского офицера. Отец моего ученика позвал меня в кабинет и вручил 25 рублей. Я попытался опять сказать, что мне напрасно платят эти деньги, что мальчик очень способный, но офицер прервал меня:
— Оставьте, пожалуйста, эти разговоры. Вы сыну понравились, он охотно, с вами занимается, а мне только этого и нужно. Вы будете заниматься с ним до конца года, если захотите.
По окончании второго месяца этих занятий у меня оказалась сумма в 50 рублей. Я явился к Знаменскому и сказал:
— Я обещал вам заплатить весь свой долг. Разрешите вручить вам 50 рублей и сказать, что больше я не буду заниматься с вашим Николаем.
VI[править]
Итак, приобретя великолепный урок у морского офицера, я впервые в жизни стал материально независимым.
Я уже мог, если б захотел, переехать в отдельную комнату и жить вполне самостоятельно, как взрослый. В Баку среди учеников это было в обычае. Вскоре два товарища предложили мне войти к ним в компанию, чтоб вместе снять большую комнату.
— Мы нашли, — сказали они, — очень хорошую комнату, за 15 рублей в месяц. Если ты присоединишься к нам, то каждому придется платить всего-то пяти рублей в месяц.
Мне показалось это соблазнительным, и я решил поговорить с Копаневым, у которого продолжал жить, занимаясь с двумя его мальчиками, уже поступившими в училище. Я сказал ему, что товарищи уговаривают меня поселиться вместе. Но как же быть с уроком?
Копанев ответил:
— Что ж, перебирайтесь, если решили. Я буду платить вам 25 рублей в месяц за занятия с моими мальчиками.
Такая плата за двух мальчиков была очень скромной, но я чувствовал себя обязанным Копаневу и, конечно, согласился.
— Поступайте, как хотите, — продолжал Копанев, — но я вам не советую жить с товарищами. Во-первых, вам будет трудно заниматься, а, во-вторых, испортится ваше поведение, которое до сих пор я ставил в пример своему сыну. Известно, как проводят время отдельно живущие молодые люди.
Я все же расстался с Копаневым, поблагодарил его за то, что он приютил меня в трудную минуту моей жизни.
Вторая часть его предсказания не сбылась, но первая оправдалась очень скоро. Когда три семнадцати-шестнадцатилетних молодых человека самостоятельно живущих, помещаются в одной комнате, то заниматься, действительно, очень трудно. Много времени пропадало зря.
Я уже подумывал о том, как было бы хорошо поступить в высшее учебное заведение, поехать учиться в Петербург. Но как это сделать без денег?
Я рассчитал, что в Баку можно существовать, тратя на питание 30 копеек в день. Для этой цели надо пользоваться народными харчевнями. Они представляли собой столовые, где извозчики, носильщики и всякого рода беднота питалась персидскими блюдами. Персидские блюда имеют ту особенность, что они нравятся не персам только и никогда не приедаются. Это — жареные на вертеле куски мяса («шашлык») или кебаб (рубленое и жареное на вертеле мясо), затем — плов («пилав» по-русски). Особенное удобство этих блюд заключалось в том, что их можно покупать на любую сумму, начиная с пяти копеек. Такой обед доступен всякому бедняку.
Приняв все это во внимание, я и высчитал, что на тридцать копеек буду сыт. Комната будет стоить мне десять рублей. А у Копанева я получаю двадцать пять, от которых кое-что еще может остаться. Кроме того, я ведь получал по двадцати пяти рублей и от морского офицера.
Я поступил, руководствуясь своими выкладками, т. е. снял комнату и зажил в одиночестве, укладываясь в свой строгий бюджет.
К концу учебного года меня постигло огорчение. Мой моряк сказал:
— К сожалению, нам придется распрощаться. Меня повысили в должности и назначили в Кронштадт.
Таким образом, мой прекрасный ученик исчез вместе с отличным вознаграждением. Это был удар по моим расчетам, по моим неопределенным, неясным еще мечтам о Петербурге.
На лето я уехал к деду с аттестатом об окончании шести классов. С ним можно поступить в юнкерское училище и через два года стать офицером. Этого я не скрыл от деда, и он уговаривал меня:
— Подавай, Миша, в юнкерское...
— Нет, дедушка. Какой из меня выйдет офицер? Как я буду командовать, если ничего не вижу?
— Что ж, и офицеры бывают в очках.
— А я и в очках ничего не вижу. Ведь ты сколько со мной бился на охоте, а ничего не вышло. Верхом ездить я могу, стрелять умею, а в офицеры не гожусь.
После долгих разговоров дед согласился, что офицера из меня, действительно, не выйдет. А «то выйдет, неизвестно. Дед спрашивал:
— Что же ты будешь делать?
— Окончу седьмой класс.
— А потом?
— Потом?.. Поеду в Петербург, буду учиться дальше.
— А деньги?
Тут я ничего не мог ответить. Деньги, деньги — в этом была вся загвоздка.
Хотелось что-нибудь заработать, и летом, но в Ленкорани никто не нуждался в репетиторе.
Я повторил эту попытку, когда уже учился в Горном институте и при переходе со второго на третий курс приехал на летние каникулы к деду. Увидев, что он нуждаемся, я захотел ему помочь. Несколько дней я упорно искал каких-нибудь занятий в Ленкорани. Я мог учить детей, подготовлять к экзаменам в реальное училище, мог составлять разные бумаги или, на худой конец, просто переписывать их. Но, несмотря на то, что одни давно знали меня, а другие — мою бабушку и мою мать и хотели помочь, никто не мог предложить мне какой-нибудь работы. Спрос на интеллигентный труд в маленьком городке абсолютно отсутствовал.
VII[править]
Седьмой класс в Бакинском реальном училище был, так называемый, «дополнительный общий». На седьмой год оставались в реальном имевшие намерение поступить в высшее учебное заведение. К конкурсным экзаменам в институты допускались предъявившие свидетельство об окончании семи классов.
Когда мы, окончившие шестиклассники, разъезжались, уже было известно, что в седьмом классе будет только восемь человек.
Все они предполагали стать инженерами, всем хотелось попасть в Петербургский торный институт.
Хотелось этого и мне.
Легко понять, почему мы стремились в Горный институт, — ведь мы жили в Баку.
Надо сказать, что в то время, т. е. э 70-х годах прошлого столетия, население Баку переживало нефтяную горячку, подобную золотой горячке, которая временами охватывает местности, где открывают золото. Счастливец, пробуривший нефтяную скважину, которая дает фонтан, обогащался в несколько дней.
Весь город был охвачен нефтяным ажиотажем. Все только и думали о нефти. Рассказывали, что будто люди, встречаясь, не говорили друг другу «здравствуйте», а спрашивали: «Бургун атыр» (бросает ли, т. е. фонтанирует ли скважина)?
Между прочим, одним из любимых занятий реалистов было производство керосина. Этим занимался и я. Керосин получался желтоватый, не очищенный ни кислотой, ни щелочью, но все же — керосин, который мог гореть.
В то время в Баку еще не было Нобеля и иностранных капиталистов, существовало несколько местных фирм, которые строили перегонные заводы и вели бурение на нефть. Во главе одной из таких фирм, принадлежащей известному капиталисту Кокореву, стоял горный инженер Алексей Семенович Дорошенко. Его брат Александр учился со мной с шестого класса реального училища и со мной перешел в седьмой класс, чтобы держать экзамен в Горный институт.
С Александром я не раз ездил в Сурханы, где работал и жил старший его брат, и там встречал за чайным столом других горных инженеров. Я знал, что А. С. Дорошенко, выйдя из очень небогатой семьи и начав свою карьеру скромным инженером-химиком, быстро приобрел солидную репутацию и стал руководителем крупного нефтяного предприятия. Он имел интересное дело, которым увлекался, и был хорошо обеспечен в материальном отношении. Прислушиваясь к разговорам горных инженеров, собиравшихся у А. С. Дорошенко, я думал, что все нефтяное дело, к которому были устремлены тысяча интересов, которое казалось в Баку главнейшим в человеческой жизни, двигалось ими. Как же тут не захотеть стать горным инженером?
Все мои товарищи, которые перешли со мной в седьмой класс, были коренными бакинцами, у всех были свои семейные гнезда и все, после окончания института, намеревались вернуться в Баку.
Только у меня не было ясных планов. Я не только не знал, удастся ли мне попасть в Питер, но и не представлял, сколько-нибудь отчетливо, чем я займусь, куда поеду, если стану горным инженером. Из родственников у меня остался в живых только дед, а сам город Баку мне никогда не нравился, и жизнь в нем казалась непривлекательной. Летом она была даже нестерпима. Все, имевшие хоть какой-нибудь достаток, стремились уехать из Баку на лето, например, в Ленкорань. Помню, когда я в первый раз подъезжал к Баку на пароходе, мне показалось, что это — мертвый город, кладбище. Он выстроен весь из камня и цемента, «и ни одно дерево или какая-либо зелень не оживляет мертвенного пейзажа.
Сейчас Баку неузнаваем, для старого жителя этого города. Население его увеличилось раз в 20, это пятый город в Советском Союзе по количеству населения. Вода в него поступает из реки Куры. Город зазеленел. Один знакомый профессор рассказывал мне, что для поливки деревьев город тратит несколько миллионов рублей в год. Пыль, которая раньше периодически заносила город, теперь почти исчезла, потому что улицы Баку заасфальтированы.
Сейчас в Баку много высших учебных заведений, несколько театров, а в мое время там не было ни одного театра, имелось одно единственное реальное училище.
Все мои товарищи ясно видели перед собой перспективу: ехать в Петербург, окончить Горный институт и затем вернуться инженерами в Баку. Я тянулся за ними, но не знал, на какие средства я поеду.
VIII[править]
После каникул, проведенных у деда, я вернулся в Баку, в седьмой класс реального училища.
После первых же уроков учитель русского языка — все тот же Азлецкий — отвел меня в сторону и сказал:
— Я могу предложить вам очень хороший урок. Родители ученика очень богатые люди, будут платить, как следует, и в течение всего года.
— Я с удовольствием возьму урок, так как моряк, которому вы меня рекомендовали, уехал.
— Ученик живет у меня (Азлецкий содержал пансион). Моя жена занимается с ним русским языком, а вы будете заниматься алгеброй, приходить три раза в неделю. За урок будете получать до семидесяти пяти рублей в месяц, — расплата по числу часов.
Я остолбенел от неожиданности.
— Как семьдесят пять рублей?
— А что? Вам это не подходит?
— Нет, что вы, очень подходит. Но ведь это же меняет мою будущность.
— В каком смысле меняет?
— А вот в каком. Я за 8 учебных месяцев могу заработать до 600 рублей, смогу доехать до Петербурга, заплатить за право слушания лекций, и жить в Петербурге целый год.
— Пожалуй. Но,— в его голосе выразилось сомнение, — но это возможно только в том случае, если вы все эти деньги сбережете.
Еще бы не сберечь!
Я занимался с этим мальчиком, — весьма, кстати, сказать, способным, — весь учебный год и по-прежнему проживал не более 25 рублей в месяц, питаясь персидскими блюдами в народных харчевнях, а иногда и в столовых.
Кроме того, Копанев по-прежнему платил мне 25 рублей в месяц за своих двух сыновей. Теперь, в седьмом классе, это «было уже дёшево и невыгодно для меня, но я считал себя обязанным Копаневу и продолжал занятия с его глупышами, уже поступившими в училище.
В «общем» дополнительном классе новым предметом являлся лишь один раздел математики («ряды»), знание которого почему-то считалось необходимым для поступления в высшее учебное заведение; остальные предметы только повторялись по несколько расширенной программе, в соответствии с большей сознательностью учащихся.
В Баку (предполагалось вместо «общего» дополнительного класса открыть «химический» ввиду наличия и городе химической промышленности. На открытие этого «химического» класса были даны средства, на них устроили химическую лабораторию с хорошим оборудованием, но на этом и остановились: химический класс почему-то не был открыт.
IX[править]
В седьмом классе ученики встретились с прежними учителями. О них надо рассказать.
Учителя в Бакинском реальном училище очень часто менялись, редкие из них задерживались в Баку надолго, и лишь немногие оставили по себе память. Оставались те», которые женились на местных бакинских девицах; таким был Иван Васильевич Чернцов — хороший учитель математики и инспектор. Некоторые из них для подкрепления бюджета промышляли пансионатами.
В частности, принимал к себе реалистов и учитель русского языка, мой, в некотором смысле, благодетель. Он был настоящим промышленником — имел дело только с очень богатыми учениками и зарабатывал на них, конечно, гораздо больше, чем своей педагогической работой.
Другим весьма предприимчивым промышленником был наш француз — Мосье Доре. Французский язык мы изучали в реальном шесть лет и кончали тем, что не могли сказать по-французски самой простой фразы. Я помню, что уже студентом, будучи на одном заводе, я хотел спросить мастера-француза, как его имя и ... не мог. С большим усилием я составил эту простейшую фразу по-французски. Помню, я сам этому очень удивился. Объясняется это тем, что все занятия в классе по французскому языку сводились не к разговору, не к чтению, а к усвоению грамматики. Мы задалбливали грамматические правила на французском языке, заучивали их и получали за это хорошие отметки, а языка не знали.
Впрочем, некоторые ученики все же говорили по-французски,— те, которые жили в пансионе у Доре. Существовало негласное, но широко известное нам правило: знать французский язык и говорить на нем будет только тот, кто поселится в пансионе Доре. На этом зиждились его доходы. Он служил когда-то сержантом во французской армии, завоевавшей Алжир (об этом, он любил рассказывать нам), образования не имел, каким-то путем попал в Персию, а оттуда в Баку. Его жена тоже была француженка, и в пансионе все разговоры с хозяйкой, с ним самим и за общим столом велись только по-французски. Это — вернейший путь для овладения языком, но им могли пользоваться только наиболее состоятельные. Богатые отдавали, своих детей в его пансион, чтобы они говорили по французски, т. е. казались «образованными».
Директором реального училища у нас был чех Чермак, из известной чешской семьи ученых. Он был женат на русской, сам обрусел, потерял чешский характерный акцент, а дети его ничем не отличались от русских.
Наш Чермак был известным лингвинистом, отлично знавшим латинский, древнегреческий, французский, немецкий и древнееврейский языки. Он был приглашен в Россию в эпоху насаждения классических гимназий, но оказался какими-то судьбами директором реального училища в Баку. В реальном он ничего не преподавал, но, заметив уловку француза, заявил:
— Я займусь с вами французским сам и покажу, как надо изучать язык.
Он действительно заставлял нас говорить по-французски, но для нас, привыкших зубрить грамматику, это было исключительной мукой. Чтоб как-нибудь заставить произносить французские фразы, он начал с басен, заставляя их читать, а затем передавать своими словами. Однако басни мы заучивали и хорошо повторяли наизусть, а самостоятельно составить фразу, все-таки не умели. Он бился с нами, бился, не выдержал характера и бросил. Пригласил другого учителя, Мосье Бессон. Это был образованный швейцарец, которому был отдан седьмой класс. Приемы преподавания у него были иные, чем у Доре, и иным был выговор. Над этим выговором издевался Доре, указывая, что Бессон твердо выговаривает «эр», чего ни один парижанин себе не позволит. (Доре владел «парижским» выговором).
Бессон подучил нас за один учебный год хорошо читать по-французски и передавать (хоть и кое-как) прочитанное своими (французскими) словами.
С немецким языком дело обстояло еще хуже. Наш немец был горьким пьяницей. Уже с утра он появлялся в школе в состоянии опьянения. Ученики всячески издевались над ним, никто его не слушал, и я до сих пор не понимаю, почему его держали в училище. Преподаванию немецкого языка, видимо, не придавали значения.
Учителем естественной истории был азербайджанец Гасан-бек(думаю,чтоЗардаби?), который в низших классах преподавал арифметику; естественная история проходилась в шестом классе. Гасан-бек объявил нам, что так как хорошего учебника по его предмету нет, то он будет диктовать свои уроки. Таким образом, он приходил к нам, диктовал и затем, вызывая, требовал знания этих записей.
Что же он диктовал? Только несколько лет спустя я понял, что диктовал он нам теорию происхождения видов Дарвина, приводя много примеров естественного подбора (или, как теперь пишут, естественного отбора).
Так мы занимались с Гасан-беком в шестом классе, а перейдя в седьмой, узнали, что Гасан-бек принужден оставить училище. Он был одним из любимых учителей, и мы, узнав об его уходе, отправились к нему на дом, чтобы выразить благодарность за его интересные уроки и сочувствие по поводу увольнения его с государственной службы. Он принял нас в архалуке и папахе — в национальном азербайджанском костюме. Впоследствии оказалось, что он националист и даже предводитель партии азербайджанских националистов. За это ли его уволили, или за учение Дарвина — не знаю.
Кроме Гасан-бека, оставил по себе память еще один учитель — Болеслав Осипович Новицкий. Он преподавал физику и химию. Преподавал он свой предмет отлично, но в его характере имелось что-то дефективное, ненормальное. Обычно он выбирал себе жертву среди учеников и глумился над ней. Это вызывало у всех нас возмущение. Помню, как он издевался, например, над учеником Абазовым. Это было настолько возмутительно, что однажды я предложил товарищам: если кто-нибудь из нас станет писателем, то непременно в первом же своем произведении изобразит Новицкого. Все обещали исполнить это, но, к сожалению, никто из нас в писатели не вышел, и Новицкий так и остался не изображенным в нашей художественной литературе.
Надо мной Новицкий не издевался, но всякий раз, когда я подходил к нему, он как-то странно, очень пристально вглядывался в меня, словно в чем-то меня подозревал. Под этим взглядом я чувствовал себя неприятно, но думал, что быть может, мне это только кажется, так как я плохо видел.
Когда я кончил курс и отправлялся в Петербург, инспектор, Иван Васильевич, пожелав мне всего хорошего, сказал на прощание:
— Надеюсь, что предсказание Болеслава Осиповича не оправдается.
— Какое предсказание?
— А как же! Он все нас уверял, что вы разбойник по натуре и непременно совершите какое-нибудь тяжкое преступление. Когда его спрашивали, почему он так думает, он отвечал: «посмотрите на его глаза, ведь по глазам видно, что он преступник».
Но, повторяю, предмет он излагал хорошо. Он сумел устроить в училище не только хороший физический кабинет, но и химическую лабораторию, приобрел посуду, реагенты, химические весы, столы, расставил все это, привел нас и сказал:
— Вот вам реагенты и все необходимое для опытов. Кто желает заниматься, — пожалуйста, занимайтесь.
В седьмом классе химия не была обязательным предметом, и в лабораторию приходили только желающие; у Новицкого не было часов занятий.
Желающих нашлось очень мало, три-четыре человека, в том числе и я. Постепенно мои товарищи бросили лабораторию, продолжал заниматься только я один. Что я делал? Покупал в аптеке соли разных металлов (каких не было в числе реагентов лаборатории) и превращал их в другие соединения того же металла, производил реакции, о которых говорилось в курсе химии. Товарищи называли это «переливанием из пустого в порожнее». Я в то время тоже не видел в этом особенного практического смысла —просто эти занятия мне очень нравились, были для меня своего рода игрой. Надо сказать, что обычные юношеские игры и развлечения взрослых были мало доступны мне из-за плохого зрения, а также вследствие установленного мною режима экономии, и я развлекался по-своему. Но это «переливание из пустого в порожнее» впоследствии мне очень пригодилось.
Видя мое увлечение химией, Новицкий, которому я всегда хорошо отвечал на уроках, поставил мне в аттестате полный балл — пятерку. Я мог бы кончить на круглых пятерках, но учитель рисования и черчения испортил мой аттестат, поставив по тройке за рисование и за черчение. Это были единственные тройки в моем аттестате.
Этот учитель не любил меня. Я рисовал не хуже, чем некоторые другие, получившие более высокие оценки. Дело в том, что он был заведующим библиотекой нашего училища, в которой имелись собрания сочинений русских и иностранных классиков, выдававшиеся ученикам. Среди учащихся почти не было охотников на такую литературу, и ему жилось бы очень спокойно, если бы не я. Я постоянно надоедал ему тем, что приходил за книгами. Каждый раз, когда я являлся в библиотеку, он встречал меня словами: «Опять ты пришел!»
Я сдавал прочитанные книги, просил новые. Ему приходилось вставать, искать книги, записывать, — это ему очень не нравилось. В конце концов он отомстил мне двумя тройками в аттестате.
Моим любимым писателем был Диккенс. Я побуждал товарищей брать его сочинения, рассказывая, что, читая «Давида Копперфильда», я в некоторых местах плакал, что «Пиквикский клуб» — очень смешная книга. Два товарища, наиболее мне близкие, взяли ту и другую книгу. Однако, прочитав, они оба заявили, что не нашли ничего трогательного в «Давиде Копперфильде» и ничего смешного в «Пиквикском клубе». Тем и закончилась моя попытка увеличить число посетителей библиотеки.
Естественно, что благодаря любви к чтению и знанию литературы я выделялся на уроках русского языка и лучше всех писал сочинения.
Таким образом, я окончил реальное училище с отличным аттестатом и с очень хорошими знаниями по литературе, по математике (потому что за годы репетиторства хорошо усвоил этот предмет и мог решить любую задачу из учебников), по физике и, наконец, по химии.
Можно, казалось мне, бестрепетно предстать перед петербургскими экзаменаторами.
X[править]
Подсчитав свои ресурсы в мае 1880 года, я убедился, что мне не только хватит на переезд в Петербург, на уплату за право учения и год жизни в Петербурге, но и сверх того останется порядочный избыток.
Часть денег я решил употребить на то, чтоб прилично одеться для появления в Петербурге, чтоб сшить себе первый в моей жизни модный костюм по мерке. Раньше, сберегая деньги, я одевался кое-как, так как считал, что можно ходить и в плохой одежде, преследуя цель попасть в Петербург.
Отправившись в лучший бакинский магазин, я гордо сообщил, что уезжаю в Петербург и что мне нужно сшить костюм.
— Покажите мне самую хорошую материю на модный костюм.
Хозяин магазина посмотрел на меня с уважением и сказал:
— Только что у меня был Леонс. Хотите я покажу вам, какой материал он выбрал на костюм? Остался один отрез, рекомендую взять его.
Леонс был бакинской цирковой знаменитостью — наездником. Мне показалось очень лестным иметь такой же костюм, как у Леонса, и я не отказал себе в удовольствии купить довольно дорогой материал. Из него мне сшили «редингот» (однобортный сюртук).
В Петербург мы двинулись, конечно, вместе — все семь человек (восьмой не мог ехать). На всех были белые костюмы как это принято летом в Баку. Мы весело и уверенно сели на морской пароход, так как всякому из нас приходилось ездить по морю. В Астрахани перешли на речной, «плавучий дворец», и с большим комфортом доехали до Царицына.
Перебрались на железнодорожную станцию, но здесь струсили: как дикари жались друг к другу, потому что никто из нас не видел железной дороги. В Царицыне мы долго упрашивали проводника — и даже весьма прилично дали ему на водку, — чтоб он посадил нас всех в один вагон, потому что все мы первый раз были в «России», первый раз садились в поезд и чувствовали себя жутковато. Проводник сделал нам это одолжение, мы разместились, паровоз загудел, дернул, вагон тронулся, и мы покатили в Петербург. Впрочем, один из нас, Вермишев, ехал только до Москвы, чтобы поступить в Московскую земледельческую академию: врачи внушили ему мысль, что для него, кавказского туземца, петербургский климат будет убийственным, и он поверил этому. Другой туземец, Джебраил-бек, однако, поехал в Петербург.
--I am 03:58, 2 декабря 2010 (UTC)